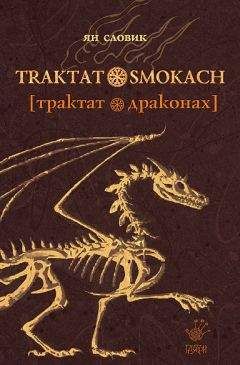У восточного входа быстро скопилась кучка приятелей. Я устал пожимать руки. Хорошенькая Жанна Успенская, жена Андре, сияла. Она неумеренно торжествует, если Андре что-нибудь удается, и надо сказать, ей часто приходится торжествовать. В данном случае, впрочем, она могла бы радоваться и не столь открыто.
Она громко сказала:
– Ты изменился, Эли! Просто не верится, такой ты загорелый и добрый. Послушай, ты не влюбился?
Я знал, почему она говорит громко, и мне это не понравилось. К нам приближались Леонид Мрава и Ольга Трондайк.
Грозный Леонид на этот раз казался почти веселым, а Ольга, как всегда, была уравновешенна и светла. Она, конечно, поняла намек Жанны, но и виду не подала, а Леонид с такой силой тряхнул мою руку, что я охнул. Этот великан – они с Алланом вымахали до двух метров тридцати – вбил себе в башку, что я стою у него на дороге. Боюсь, Ольга поддерживает в нем это заблуждение. Это тем удивительней, что, не в пример Жанне, Ольга совсем лишена кокетства.
– Я рада, что вижу тебя, Эли, – сказала Ольга. – Ты, кажется, улетал на Марс?
– А чего я не видал на Марсе? – буркнул я. – Мы монтировали седьмое искусственное солнце на Плутоне. Слыхала о таком?
– Конечно. Желто-красный карлик нормальной плотности, мощность восемь тысяч альбертов. Я недавно вычислила, что этой мощности не хватит для нормального функционирования. Ты не ознакомился с моей запиской, Эли?
– Нет. От твоих записок у меня голова болит – так они учены!
Ольга не обиделась и не огорчилась. Она слушала, ровная и розовощекая. Уверен, она и не вдумывалась в содержание моих слов, с нее достаточно, что я говорю. Она слушает один мой голос. Жанна встряхнула локонами, они у нее длинные и так светлы, что издали кажутся седыми.
– Ты не ответил на мой вопрос, Эли!
– Да, – сказал я. – Влюбился. И знаешь – в кого? В тебя. Я долго скрывал, но больше нет сил. Что ты теперь собираешься делать?
– Переживу, Эли. А может, расскажу Андре, пусть он знает, каковы его друзья.
Она повернулась ко мне спиной. Жанна так хочет всем нравиться, что сердится, когда над этим подшучивают.
– У Аллана интересное сообщение, – сказал я, чтобы перевести разговор на другое. – Аллан, повтори-ка, что ты говорил нам.
И снова, как перед тем мы с Лусином, никто не отнесся серьезно к новостям Аллана! Его выслушали равнодушно, словно он делился пустяками, а не самой важной информацией, когда-либо полученной человечеством. Сегодня, вспоминая те дни, я не могу понять, почему нами овладело такое непростительное легкомыслие. Оно было тем непостижимей, что Леонид и Ольга, капитаны дальних звездолетов, уже и в то время слыли опытными астронавтами. Кто-кто, а они должны были сообразить, что означает открытие в звездных мирах, на наших галактических трассах, существ, равных нам по разуму и могуществу. Леонид поступил еще легкомысленней, чем я. Он попросту отмахнулся от Аллана. Наше маленькое искусственное солнце на Плутоне интересовало его больше.
– Удивляюсь вашему консерватизму, – сказал он. – Сперва монтируете огромный спутник, потом разжигаете, пока он не превратится в крохотное светило, и тратите на это столько же лет, сколько и наши деды пару веков назад. А зачем? Звездный Плуг за месяц работы зажжет десяток искусственных солнц всех запроектированных размеров и температур. Не нужно ни монтажа, ни разогрева – короче, ничего, кроме приказа: зажечь и доставить на место солнце!
– Хорошо! – сказал Лусин. – Очень. Даже – очень-очень! Зажечь и доставить! Замечательно. А?
– Великолепно! – сказал я. – Много лучше пожаров, которые ты разжигаешь в животах бедных драконов. Кстати, почему в самом деле не используют для создания малых солнц Звездные Плуги?
Ольга рассудительно ответила (иначе она говорить не умеет):
– Создание солнц с помощью Звездных Плугов, вероятно, было бы проще. Но их запуск в окрестностях нашей системы грозит нарушением равновесия космического пространства. Не хотите же вы, чтоб Сириус налетел на Процион, а Проксима Центавра ударилась о Солнце?
Леонид сказал:
– Реальность такого катастрофического нарушения равновесия не доказана…
– Никто не доказал и обратного, – возразила Ольга. – Решение может дать опыт, неудачный же опыт – непоправим.
Из концертного зала вышли Андре с Павлом Ромеро. Появление Павла было так неожиданно, что я в восторге побежал к ним навстречу.
Ромеро после разлуки не здоровается, а обнимается: он говорит, что этот обычай раньше существовал во всех цивилизованных племенах. Хорошо еще, что он не целуется, – был, кажется, и такой странный обряд приветствования.
– Это вы, Эли! – сказал он важно. – Ясно вижу, что это вы!
Они стояли передо мной плечо к плечу – улыбающиеся, довольные. Оба невысокие, всего метр девяносто один каждый – меньше, чем Лусин и я, – широкоплечие, молодые: Андре ровесник мне и Лусину, Ромеро на пять лет старше. На этом сходство заканчивается, все остальное, от облика до привычек, вкусов и поступков, у них не только различно, но и противоположно. Ромеро ни на кого не походит, кроме себя. Его усы и бородка-эспаньолка мало напоминают окладистые бороды и усы на портретах доисторических королей, хотя он утверждает, что скопировал их не то с римского цезаря, не то с американского президента – в общем, с какого-то из владык древних республик. И он всюду для забавы таскает трость. Он и обнимал меня, не выпуская трости.
Но если Ромеро ни на кого, кроме себя, не похож, то Андре не бывает долго похожим даже на самого себя. При каждой встрече он иной и неожиданный. Если бы он не был гениален, я бы сказал, что он тщеславен. В школе он менял волосы чаще, чем костюмы. На пятом курсе второго круга он удалил доставшиеся ему от природы каштановые кудри и завел черные и прямые волосы, а на третьем круге растительность на голове менялась год от года: гладкие пряди сменились локонами, за ними появились пучки, похожие на кочки, потом он был сияюще лыс, затем снова обзавелся волосами – на этот раз короткими и колючими, как проволока.
Цвет тоже менялся: кудри были золотые, потом превратились в вороные, а проволокоподобная поросль обжигала малиново-красным, так что голова пылала на свету, как головешка, – Андре считал, что такое сверкание ему к лицу. На этот раз у Андре были мягкие каштановые кудри, такие же длинные, как у Жанны. Во всяком случае, это красивее, чем малиновая проволока.
– Ты загорел, Эли! – сказал мне Андре. – Неужели солнца на Плутоне так пламенны?
– Это результат концерта, – возразил я. – Твоя симфония меня чуть не испепелила. А один старичок хватался за сердце.
– Тебе не нравится? Нет, правда, тебе не нравится, Эли?
– Как может нравиться вздор?
– Та же мысль, что я высказывал, – подхватил Ромеро. – И те же слова, дорогой Андре: вздор ваша симфония!
Жанна обняла Андре и показала нам язык.
– Не огорчайся, милый. Полчаса назад Эли басом объяснялся мне в любви! «Я у твоих ног. Что ты собираешься делать?» Как можно серьезно относиться к Эли?
Мы хохотали, даже Ольга улыбнулась. Андре продолжал огорчаться. Этот чудак всерьез надеялся восхитить мир своей адской музыкой.
– Я могу объяснить, что не понравилось в концерте, – сказал я. – Но на это нужно время, Андре.
Он ответил:
– Давайте присядем в парке и побеседуем.
– Лучше походим по парку, – предложил Павел. – В старину философы любили беседовать, прогуливаясь. Почему бы нам не воспользоваться некоторыми их обычаями?
– Без ходьбы философия у древних не шла, – подтвердил Леонид. – Их поэтому называли ходоками.
– Перипатетиками, то есть прогуливающимися, любезный Мрава. Могу вас уверить, что ходоки, или жалобщики, не имели отношения к философам.
Леонид промолчал. С Павлом спорить бесполезно. О древности он знает все. К тому же никто из нас не представлял, чем именно различались профессии жалобщиков и прогуливающихся. В старину было много удивительных ремесел.
Мы двигались шеренгой, под руки: Жанна, Ольга, Андре, Павел, Лусин, я, Леонид, Аллан.
Я начал с того, что художественное произведение должно доставлять наслаждение, а не выматывать душу. А после симфонии Андре надо принять освежающий радиационный душ для восстановления сил. Кое-что в ней и неплохо – некоторые мелодии и цветовые эффекты, холод под перегрузку и жара под невесомость, но все это в таких дозах, так утрированно, что наслаждение превращается в страдание.
– Мне нравятся лишь музыка и цвета, – заметил Ромеро. – Должен признаться, друзья, что ваши модные перегрузки, невесомость, давление, жару и прочее душа моя не приемлет.
– Запаха не хватает! – повторил Аллан высказанную раньше мысль. – И знаете – электрических уколов! Под грохот и вспышки, ледяной ветер и перегрузки эдакие ядовитые мураши, будто кто-то быстро-быстро перебирает когтями по телу. – Он захохотал.
Лусин проговорил с восхищением: