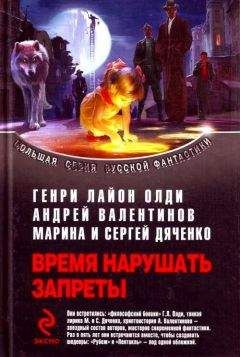Пустота.
Где творилось тайное зачатие страха.
В ближайшем гастрономе ноги сами понесли Сашку к ликероводочному отделу. Отдел оказался в придачу еще и коньячным, а к напитку, пахнущему изысканным клоповником, Нестрибайло питал давнюю слабость. Углядев чекушку пятизвездочного «Арарата», журналист приобрел ее, но задумался и в итоге обзавелся дополнительно бутылкой «Асканели». На задней калеретке-медали был такой дружелюбный грузин с усами…
Закуски брать не стал. От нее «градус слабеет», как говаривал один друг детства.
Начал в скверике за универмагом. На скамейке. В гордом одиночестве. Проходившие мимо женщины с малолетними чадами косились без одобрения, а Сашка в ответ лишь заговорщицки подмигивал. Из окна серой «Тойоты», остановившейся напротив, за журналистом наблюдали двое. Нестрибайло приветственно поднял бутылку: ваше здоровье, мол! В окошке уважительно качнулась ладонь соглядатая: все в порядке, дорогой товарищ. Мы тоже люди, все понимаем. Расслабляйтесь под нашим надзором.
Потом он пил с какими-то работягами, присевшими рядом на скамейку. Работяги оказались милейшими, интеллигентными людьми: один – сантехник, другой – тоже сантехник. Сходили в магазин за добавкой. Предстоящий обряд сделался отстраненным, чужим. Надо – значит, надо.
Пойдем и громыхнем.
* * *
– Здорово, братва! Солдат стоит, служба идет?
Двое ментов, скучавших около свежевозведенного редута – верней, около единственного прохода в ограде с «колючкой», – без особого дружелюбия посмотрели на гостя. В «датом» состоянии Нестрибайло становился весел, азартен и остроумен, удивляясь, почему окружающие не разделяют его восторга от самого себя. Протрезвев, он соображал почему и даже давал неисполнимые зароки, но в очередной бутылке умницы-соображения растворялись напрочь.
– Эй, серые волки, Иван-царевич пришел! Отворяй ворота!
Куражась, Сашка полез в карман за волшебным пропуском господина Химерного. Страх сидел в том же кармане, колючий, ядовитый ужас, и эта зараза не преминула впиться в ладонь всеми иглами. Собственно, к камню Нестрибайло шел из страха, и куражился из страха, и откровенно не знал, что он будет там делать, кроме как бояться три-четыре часа подряд, пока его пинками не загонят на чертову каменюку: служить громоотводом.
Втайне терзала надежда: приди он к камню, и страх уберется из кармана вон.
А там хоть трава не расти.
– Здравия желаю, Александр Васильевич!
Пропуск не понадобился. От трамвайной остановки, неприметный и юркий, как майский уж, вывернулся гражданин в штатском. У гражданина все было в порядке, кроме одного: он никаким боком не попадал в знаменитую классификацию населения, изобретенную Сашкиным приятелем, епархиальным адвокатом Гнатом Семаком. Гнат искренне полагал, что люди без остатка делятся на бандитов, деловых, ментов, лохов и богему. Причем у каждой популяции отличий от соседствующей больше, чем у тритонов от воробьев. Иногда, усугубив логику коньяком с пивом, адвокат выделял юристов в отдельную группу, но лично Сашка считал это излишеством, растворяя юристов между деловыми, ментами – и порой бандитами – в примерно равных количествах.
Видимо, часовые на посту также почуяли особенность юркого гражданина. Они учуяли вдобавок что-то еще, упущенное Сашкой, и ментам генерал-невидимка сразу вогнал в хребты по стальному штырю, а в глазницы – по оловянной пуговице.
Окаменели с дружелюбием во взоре.
– А вы проходите, Александр Васильевич, скатертью дорожка! Мандат ваш спрячьте, ни к чему им размахивать…
Гражданин явно видел сквозь карман. И пропуск, и колючий Сашкин ужас.
Двигаясь меж вытянувшихся во фрунт ментов, Нестрибайло услышал:
– Тяжело, говорят, в ученье, легко в бою… Легкого вам боя, голубчик!..
Мысль, высказанная однажды совсем другим Александром Васильевичем, щуплым, но вполне героическим, повисла у Нестрибайлы на плечах мокрым, свинцовым плащом.
Идти воскресным вечером по пустому парку оказалось неприятно. Так смотрят на труп приятеля, встав над гробом: еще вчера мертвые губы смеялись, мертвые глаза лучились, на мертвых щеках играл румянец, а ты втайне прикидывал: удастся ли одолжить червончик у хорошего человека? Сейчас же щеки раскрасил гример из морга, губы срослись белым шрамом, нос заострился, а червончик потерял всякое значение, если только он не был завещан тебе в письменной форме и заверен нотариусом. Остаются лишь слова, сухие и казенные, как тюремная пайка хлеба.
Центральная аллея.
Шахматный домик.
Пруд.
Камень.
Впрочем, до камня Сашка не дошел, потому что там уже находились два человека. Двое, которым никак не полагалось здесь обретаться, если верить рыжебровому господину Химерному. Охрана прошляпила? Или у них тоже есть чудо-мандаты?!
Один из странной парочки, по семаковской классификации – конкретный и отчетливый лох, приник к заветному камню, о чем-то беседуя с молчаливой глыбой. На расстоянии чувствовалось, что у лоха горе. Упав на колени, он забыл поддернуть штаны, смешно наклонился вперед, да так и замер, раскачиваясь и бормоча. Очень похожим образом молился старый раввин Исаак Бергштейн, когда Нестрибайло явился в синагогу делать статью о корнях антисемитизма и надел для этого кипу, а сверху – шляпу, чтоб не ругались.
– Э-э… добрейший вечерок! – сказал Сашка, непоправимо трезвея и понимая, что несет чушь.
Лох не ответил. Он беседовал с камнем.
Зато отозвался второй – высокий, солидный, несмотря на жару, одетый поверх строгого костюма в летнее пальто из кашемира. Чувствовалось, что он привык к местам тропическим или каким другим, но куда более жарким, чем этот парк, и здесь отчаянно мерзнет.
– И вам всего наилучшего, Александр Васильевич! Не стесняйтесь, будьте как дома.
Сегодня рушились основы. Высокий в пальто также никаким боком не попадал в классификацию Семака, подобно гражданину с остановки. Только гражданин не содержал в себе черточек, позволяющих отнести его к определенной группе народонаселения, – а высокий содержал сразу все. Слегка бандит в профиль, чуть-чуть деловой анфас, богема в одежде, нарочитая лоховатость в жестах – дескать, вот какой я простофиля! – ну и капелька мента в прищуре внимательных глаз. Словно человечество перемешали и отлили в новой, а может, старой, давно утерянной форме.
– Э-э… – Журналист, акула пера, обладатель гениального нюха и острейшего языка, сейчас Нестрибайло стыдился однообразия собственных «вступлений в диалог». Позор, чистое позорище. – А это кто такой?