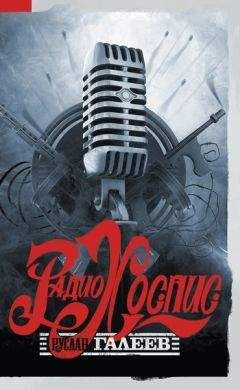Кресты медленно, обрастая все новыми чернеющими шляпками грибов и разбегаясь, пересекли стены и потолок и зависли над дверным косяком. Они стали медленно перетекать друг в друга, пока не превратились наконец в огромную черную снежинку.
– Мне страшно, – очень четко проговорил материнский гриб, обрывая сирену, и в то же мгновение все цвета померкли, а в комнате снова стало непроницаемо темно и оглушительно тихо. И в этой тишине слова раздавались так четко, что перестали быть просто звуками, становясь то частью темноты, то болью усталых мышц, то опустевшими магазинами наших дробовиков. – Меня не научили времени, я не понимаю, как это: «было». Все только есть, всегда есть: во мне, в воздухе, в камне, в стекле, в дереве – даже если я об этом забываю. Каждую минуту, каждое мгновение она говорит мне, как ей страшно, и каждую минуту я это слышу... Даже сейчас. Я умею показывать только то, что есть. Но мне все время больно, и каждый раз – все больнее...
– Ты покажешь нам короткую дорогу? – спросил Сабж.
– Я ее нарисую, – ответил голос.
Как-то раз мы с Фрэнки брели по набережной Сены в районе площади Конкорд. Стояла ранняя осень, золотая и солнечная, скорее осколок августа, чем бабье лето. Дожди еще не портили клошару бизнес, и он старался все светлое время дня проводить на корточках с мелками в руках. Но я пообещал ему ужин и компенсацию дневного заработка. Мы только что познакомились. Я только что дочитал Оруэлла. Париж был как никогда литературен. Воздух пах типографской краской, а в изгибах улиц виделись повороты сюжетов.
Это был новый для меня Париж. Кажется, третий по счету. Ну да, точно. Первым был Париж Миллера, Париж «Черной весны», обжигающих дневников наивной шлюхи Анаис, смешного Альфреда Перле и стервы Джун. Тогда я прожил две недели в Клиши, гуляя ночами мимо тусклых окон борделей, а дни проводя с ноутбуком или с бутылкой. Позже, прочитав написанное мной тогда, Буги сказала: «Если этот фрагмент переписать и убрать Миллера, получится отличная вещь». Но я не стал переписывать, уже тогда решив, что ничего издавать не стану.
Потом был Париж Кортасара: город-метафора, период-намек, время эстетствующего бездельника, матэ и «Галуаз». За два месяца я не написал ни слова, но прочитал больше, чем когда-либо за такой краткий отрезок времени.
Париж Оруэлла стал третьим, и, уже подъезжая к окраинам города, я знал, что найти его в одиночку мне не удастся. Требовался провожатый, гид, экскурсовод по парижской грязи. Фрэнки первым попался мне на глаза на набережной: он рисовал неподалеку от платной парковки, на которой я оставил свой ЗИС.
Напротив моста Бакалавров Фрэнки остановился и показал себе под ноги:
– Смотри.
Я послушно опустил голову. На асфальте, видимо, масляной краской, но очень давно, так что едва можно было его разглядеть, был нарисован человеческий след.
– Ну и?..
– Знаешь, что это такое?
– Нет.
– Это след Черного Мадии.
– Никогда о таком не слышал.
– Слышал. Только под другим именем.
Черный Мадия был клошаром, таким же, как Фрэнки. Каждый день он шел по этой набережной в сторону речного вокзала, где ему иногда удавалось получить разовую работу. Почти десять лет он ходил здесь: утром туда, вечером обратно. Он ненавидел эту дорогу, да.
А однажды Черный Мадия исчез в неизвестном направлении, Фрэнки, по крайней мере, не знал, куда. И вернулся только через два года – на большом черном лимузине, с сигарой в зубах, пахнущий очень дорогим одеколоном. Такие вот метаморфозы в духе античных классиков.
Черный Мадия, не дожидаясь, пока водитель откроет ему дверь, вылез из своего танка. Вслед за ним выбрался его шофер с ведром белой краски в руках. Черный Мадия обмакнул в ведро свои дорогие ботинки и сделал первый шаг. А потом прошел таким образом весь путь по набережной до речного вокзала. Зачем? А хрен его знает. Он тогда не подошел ни к одному старому знакомому, даже виду не подал, что кого-то узнает, и не бросил ни одного цента в шляпы бывших коллег.
– И правильно сделал, – сказал Фрэнки и наступил на стершийся от времени след.
– Потому что вы ненавидите тех, кто вам подает?
– Ага. И поэтому тоже.
– Значит, меня ты тоже ненавидишь?
– Нет. Ты не подаешь, ты предлагаешь работу и оплачиваешь ее.
Фрэнки так и не рассказал мне, под каким именем теперь живет Черный Мадия. Да и бог с ним, с клошаром-миллионером. Просто я вспомнил эту историю, когда в кромешной темноте вдруг стали один за другим появляться фосфоресцирующие следы на полу. Едва слышно скрипнула дверь. Потом я услышал, как кто-то рядом со мной поднялся на ноги.
– Идите по следам, – сказал невидимый Сабж, – и не отставайте. Иначе никто вас не сможет найти. На таких дорогах даже Проводники – гости.
На что это было похоже? А черт его знает, на что, мне не с чем сравнить. Я ступил на ближайший след, он тут же исчез и появился следующий – видимо, Буги или Сабж прошли прямо передо мной. Я двинулся за ними. Хотя странное беспокойство, въевшееся в подкорку, как никотин в легкие, которое не смогли вытеснить даже два года, проведенные в Самерсене, ко мне так и не вернулось, последние слова Сабжа продолжали эхом звучать в голове, и я решил, что отставать действительно не стоит. Едва я поднялся на ноги, как вернулась усталость – мне хотелось еще побыть здесь, в этом спокойном и безопасном месте, отдохнуть. Но я сделал шаг, потом другой, третий – не только потому, что остаться в гостях у Безумных Шляпников означало оказаться одному в Эпицентре. Дело в том, что с тех пор, как погасла грибная картинка, я уже не был уверен, что то место, где мы лежали в темноте, и то, куда мы пришли сквозь пролом, – одно и то же. Это было странное чувство, похожее на зуд внутри черепа, – раньше я никогда такого не ощущал.
Мы шли в кромешной темноте, следуя направлению, указанному светящимися следами. Иногда я слышал дыхание Буги впереди, однажды даже задел ее ногу своей. Несколько раз Сабж окликал нас, чтоб убедиться, что никто не отстал.
Однако так продолжалось недолго. То есть, дорога без света не прерывалась, но скоро с нами стали происходить странные вещи. Причем с каждым – позже у нас был об этом разговор.
Началось со странных вкусовых ощущений, довольно резких для меня, так что я легко мог определить, какой именно вкус чувствую. Дело в том, что у меня есть одна особенность – мне, например, трудно припомнить вкус вина, которое я не люблю (таких, собственно, и нет), но оно не вызывает у меня отвращения (а вот такие есть), но того, чего терпеть не могу, – запросто. Такая вот антипатическая память. И когда я вдруг ощутил вкус «шанди»[9], я сразу понял, что это именно оно.