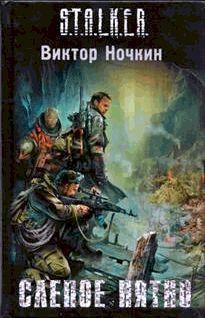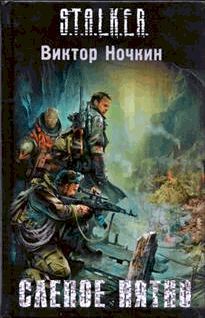— Эй, сюда! Костик, волоки профа ко мне!
Я сбросил с крышки трухлявые обломки и взялся за импровизированную ручку — кусок доски, прибитый к люку дюймовыми гвоздями. Поднатужился и откинул — внизу валялась лестница, семь или восемь дощечек, прибитых к слегам. Лестницу уронили, придется прыгать. Я скинул вниз рюкзак и прислушался — как будто тихо. В таком погребе может завестись что угодно.
Костик подтащил Вандемейера и спросил:
— Слипый, а чому нэбо таке червоне?
— Красное? Мне пофиг, я дальтоник. Смотри, я сейчас спрыгну, и сразу вправо, а ты с «калашом» страхуй.
— А що там?
— Если повезет, совсем ничего.
О том, что может встретиться, если нам не повезет, я не стал говорить. Зачем? Я напоследок глянул вверх — небо в прорехах кровли выглядело как открытая рана, почему-то возникли мысли о сочащихся крови и гное… Тьфу, гадость. В голове стучало, руки ощутимо подрагивали — Выброс приближался. Уже вот-вот. Ну, удача… на тебя уповаю. Я перекинул «Гадюку» за спину, присел над люком, спустил ноги, взялся за трухлявую окантовку… и спрыгнул. Упал на левый бок, перекатился, хватая автомат, и сместился вправо. Тишина. Запах гнили — здесь влияние надвигающегося Выброса ощущалось несколько меньше, так что я различал запахи. И, к счастью, я не различал звуков. Любой звук мог означать опасность.
Фонарик я не включал, потому что все, что окажется за пределами светового пятна, будет невидимо. Лучше так… Наконец глаза привыкли настолько, что я стал замечать, как колеблется освещенность от движений Костика над люком. Тихо и спокойно! Спасибо, добрая богиня. Я оставил автомат в покое и взялся за лестницу, поднатужился и приподнял, просунул концы слег в люк. Понятно, почему лестницу убрали, иначе бы крышка не опустилась. Когда я, устанавливая лестницу, глянул вверх, глазам стало больно — темное небо, словно густая жирная масса, сочилось сквозь дырявый шифер, лезло в развалины… Костик подал мне рюкзаки, потом автомат Дитриха, наконец, самого ученого. Где-то в вышине начал нарастать глухой вой, вибрирующий на низких частотах. Я принял едва шевелящего конечностями Вандемейера, волоком стащил его по ступеням… потом посторонился, пропуская Костика. Тот, опускаясь, приподнял крышку люка, опер о торчащие деревяшки. Дитрих включил фонарик, укрепленный на жестком каркасе капюшона. Широкий луч осветил груды гниющего сора, раздолбанные ящики, россыпи консервных банок, изломанную пластиковую посуду и прочие приметы цивилизации.
Пока Вандемейер оглядывался, мы с Костиком аккуратно опустили лестницу, так, что крышка захлопнулась. И сразу стало легче.
Потребовалось не меньше пятнадцати минут, чтобы осознать, что над головой буйствует Выброс, и нам всё-таки чертовски плохо — до того полегчало, едва над головой не стало этого жирно трясущегося кровавого студня… Мы повалились на пол, в груду трухлявого податливого сора, и блаженствовали. Лично я не чувствовал ни рук, ни ног, я растекся, вжался в сырую массу, превратился в часть перегноя, смешался с прохладной грязью и радовался этому. Чтобы понять мое состояние как следует, нужно хоть разочек оказаться под воздействием Выброса.
Потом стали возвращаться ощущения — я снова почувствовал свое тело и понял, как ему, бедному, тяжко. Кровь колотилась в висках, сердце, похоже, пропускало удары и билось не в такт, пальцы дрожали. Спутники наверняка ощущали то же самое, во всяком случае, Вандемейер заговорил по-немецки, и я не понимал ни слова. Зато Костик вдруг объявил без малейшего акцента:
— У нас есть две бутылки.
— Чего?
— Я говорю, водку, которая у бандюков была, я не стал толкать, оставил. Она у меня в рюкзаке. Как чувствовал…
— Давай!
— Сейчас… рюкзак, где он? — Костик заворочался в темноте, звякнуло стекло.
Вандемейер был совсем плох, пришлось вливать ему водку в рот насильно — впрочем, он не сопротивлялся, просто не мог удержать пластиковый стаканчик. Мы с Костиком тут же накатили по второй… Водка не помогла, но ощущения начали смазываться, стало казаться, что мутит от некачественного пойла, а не из-за Выброса. Согласитесь, это совсем другое, когда от паршивой сивухи — это привычное недомогание, можно сказать, родное и близкое.
— Как-то сталкера Петрова спросили, чем отличается бандюк от военного. — Я с удивлением обнаружил, что язык заплетается. — Он отвечает: у военных водка качественная, и вообще хабар богаче с них выходит… А так — никакой разницы.
— Не смешно, — заметил Костик.
— Зато правда.
Дитрих порывисто вздохнул. Луч его фонаря качнулся и заскользил по подвалу.
— Как вы, Вандемейер?
— Что это за гадость вы мне дали? Заговорил! По-русски! Хороший признак.
— А что?
— Сперва мне казалось, что Зона давит на меня снаружи, а теперь и внутри то же самое… О готт, какое дерьмо… Дайте воды, Слепой. Не то я умру.
Свет фонаря обратился в мою сторону. Я налил в стаканчик, дрожащий в протянутой из мрака руке.
— Пейте и живите.
Дитрих шумно выхлебал и задумчиво протянул:
— Хотя, возможно, лучше бы я умер.
Где-то над нами бушевал Выброс, но в чем Дитрих был прав — паршивая водка придавила организм изнутри, и давление выровнялось. До нас доносились раскаты грома, но я не мог сказать наверняка, есть ли физический звук, или это мое тело отзывается на Выброс, трансформируя непривычные ощущения в образ звука, который подсознательно связан с потрясением, угрозой, разрушением.
Костик, похоже, как и я, не то чтобы пришел в норму, но как-то свыкся, притерпелся. Во всяком случае, он перешел на украинский.
— Слипый, чуешь, я цю кляту горилку колы видкоркував, то крышку загубыв…
— Да и Зона с ней. Потерял, и ладно.
— А рештки? Допыты треба.
— Давай. Я думаю, хуже, чем есть, уже не будет.
И верно — хуже было просто некуда. Столько поганой сивухи натощак мой организм не смог бы принять без эксцессов, но теперь бедному организму было не до мелочей. В голове зашумело, перед глазами все плыло… помню, мне стало смешно, что Вандемейер так прыгает, поскольку луч его фонарика раскачивается, потом сообразил, что это я головой качаю, а вовсе не Дитрих… но это показалось ещё более смешным. Я хихикнул, никто не обратил внимания…
Когда именно в голове начало проясняться, не помню — я несколько раз пытался взять себя в руки, потом снова впадал в забытье. Мне будто что-то снилось — люди, цифры, формы и объёмы. Когда я наконец почувствовал, что соображаю, в убежище стояла тишина. Костик спал, мерно посапывая, — вот железный организм. Вандемейер бодрствовал, шуршал в темноте плотной тканью комбеза. Фонарик он выключил. Было темно, сыро, пахло гнилью. Кое-где, будто огни святого Витта, светились пятна плесени.