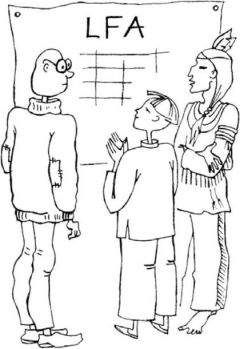Борьба в партере мне никогда особо не была близка, но основные каноны я знал на отлично. Извернувшись, я не позволил Пернату стать хозяином горы, влезши мне на грудь и совершивши добивание. А когда он подсунул мне под горло руку, чтобы задавить, я перехватил ее и отскочил назад, вынудив растянуться на асфальте. В то же мгновение упав на спину, я протащил его руку через промежность, а свои ноги набросил ему на голову и грудь.
Ай, как смачно заверещал же штабист! Как хрустнула кость, когда я ответил ему таким же выламыванием локтевого сустава!
Но черт бы меня побрал — сука, он укусил меня за лодыжку! Я дернул ногой, но сам взвыл от боли — его челюсти намертво вцепились в мою плоть. А едва ослабив давление на грудь, он вывернулся! Выдернул поврежденную руку и прыгнул на меня подобно разъяренному зверю.
Правая рука его была неспособна причинить ущерб, а вот левая…
«Где твоя левая рука, а, Пернат?»
Поздно, Салман. Поздно.
Лезвие запуталось в плотной бушлатной ткани, и это в некоторой степени спасло меня. На пару сантиметров, я бы сказал, спасло. И все же я в полной мере испытал резкий холод прикосновения к телу смертоносной стали. Ощутил, как острие углубилось под кожу, в область печени. Кольнуло как-то так даже и не то чтобы сильно. Досадно — вот отлично характеризующее то ощущение слово. Досадно кольнуло. Не столько больно, сколько досадно от осознания допущенной глупой ошибки.
Это ж надо, после всего попался, как лошок.
Оружие вновь оказалось в его руке. Два. Лунный свет хорошо освещал окровавленное лезвие армейского штык-ножа. Странно, удар в печень (или примерно), а дает на ноги.
Я отполз назад, скукожившись на тротуаре у автостоянки.
— По чеснарю, говоришь? — хриплю.
— А что мне с тобой о чести, лохарина? — Пернат сплюнул в мою сторону, поднял ствол и направил мне его в грудь. — Ты в любом случае должен сдохнуть. Так какая разница с честью или нет? Передавай от меня привет Никитину, — его голос начал теряться, будто я уезжал. Может, на «Икарусе» с надписью «Эвакуация» на борту? — Скажи, что там, где его зароют, я буду каждый день ссать, чтобы побыстрее заросло…
Что ж за нах такой, а? Ладно бы в сердце, а то — куда? Почему так быстро? В кино же показывают, раненых как-то до госпиталей дотягивают без рук и ног, а у меня-то царапина всего. Всего-то…
— Не понял… — Голос у Перната был действительно удивленным? Может, у меня крылья пробивались со спины? Может, я ангел? Который не спас ни одной души? Может, я падший ангел?.. — А вы тут откуда? — Его голос стал похож на визг. Нет, похоже, я не ангел. — И что он?.. Дьяк… Какого черта? Ты чо?!
Выстрел был. Это я помню точно. Последнее, что помню, прежде чем ночь наполнилась необычайной теплотой и тишиной.
Выстрел. А вот в меня или кого-то другого — это уж увольте, я так и не понял.
26 октября 2015 г., 00.20
2 года 4 месяца после эвакуации
Помню, что тащили. На горбу. Помню, как долбило в висках и каким глухим болезненным эхом отдавался каждый стук сердца. Обрывками помню — в промежутках между отключениями, пока боль, расходящаяся по всему телу огненным приливом, не вырубала меня, как скачок напряжения вырубает в счетчике пробки. Помню, что удивлялся: кто добрый такой? Никитин? Да кто ж, если не он. Или кто из парней? Помню, что было жарко — неимоверно. Лихорадило, будто «африканца» подхватил. Кто-то ходил рядом, шаркал подошвами. Затем желтый свет фонаря, направленный мне в живот, и тарахтение дизелька за головой. Помню боль от ковыряния в животе. Помню сосредоточенное лицо Валерьича, фармацевта, хирурга. Помню, как в его руке бренчит натянутая нить.
Потом — тишина и темень. Короткая и в одночасье едва ли не в жизнь длиной.
Очнулся. Мысль первая: похоронили, суки! Живьем закопали.
Махнул ладонью перед собой, будто испарину с окна стер. Ничего, темень и пустота. Тишина, как и во сне. Сердце, камнем упавшее в колодец, встало на место. Застучало резво, будто барабанным боем.
Нет, не похоронили.
Просто бросили. Как безнадежного. Подыхать.
«Холодно», — канула в темноту вторая мысль. По наитию рука проделала еще один взмах. Затем еще. Наклонись ко мне в эту минуту сама Смерть, я бы так поймал ее за глотку, тоньше Витаса бы спела. Но под руку не попало ничего, кроме пустоты.
Нужно встать.
Чччччерт! Молния влетела мне в бочину как пуля со смещенным центром — пронзила брюхо и вышла через височную часть. Как же это больно! Приложив ладонь к туго перевязанному торсу, скорчившись от боли и издавая при этом тошный скрип, я улегся обратно. Хорошо хоть боль оказалась дрессированной, утихла, едва я вновь принял горизонтальное положение. Убралась в свою обитель, но слишком четко обозначила — вернется по первому же зову.
— Что, браток, эт самое, отошел? — спросил кто-то тихим голосом. — Ты бы повалялся еще, штопали же только недавно. И это… Уж прости, должен буду, все сигареты твои извел.
Отняв голову от подушки и повернувшись на голос, я углядел размытый силуэт сидящего на кровати мужика. Разумеется, наличие живого человека в темно-сером пятне можно было предположить только благодаря прозвучавшему оттуда голосу, иначе я счел бы его за потек ржавчины по стене. Все же я не исключал, что и этот контур, и его голос — всего лишь глюк или часть сна, которая почему-то продолжала вполне автономное существование. Ну как, например, шапка царя в «Иване Васильевиче», после того как оказалось, что Шурик в отрубях все кино пролежал.
Что до меня, то я не мертв, не погребен заживо, залатан и не одинок, что уже само по себе неплохо. Как для необходимого минимума в начале следующей главы моей жизни.
— Доктор придет утром, — сказал человек. — Он каждое утро обход делает. По всей Виннице, никого навестить не забывает. Его могут разве что не дождаться, тут уж как повезет. Дома Валерьич теперь только траву от простуды выдать может. Пациентов держать опасно. «Дожье», эт самое, шнарит, ежедневно наглядывает. Ты-то сам, вообще, как, жить будешь?
Голос владел чудодейственным эффектом. По крайней мере мою сердечную амплитуду ему удалось выровнять лучше всякого кардиотоника. Я слушал бы его, даже если б он партию «Онегина» сейчас исполнять начал.
Ты только пой, Вася, пой — так и хотелось сказать.
— Еще не знаю, — ответил я, и мой голос напомнил голос дряблого старика, извиняющегося за то, что пернул в троллейбусе.
— Значит, будешь, — утверждающе сказал человек. — Тебя зовут Салман, верно? — Я почему-то предположил, что он закончит свое предположение словами: «тот самый Салман, что поднял на уши всю „дожью“ рать партизанской тру-диверсией на Малых Хуторах». Но он этого не сказал. Вместо этого все тем же тихим голосом объяснил: — Я слышал, док так тебя кликал. И еще один, тот, что приходил. Кажись, Призраком, эт самое, его зовут. Матерый он, говорят. Хорошо, видать, его знаешь?