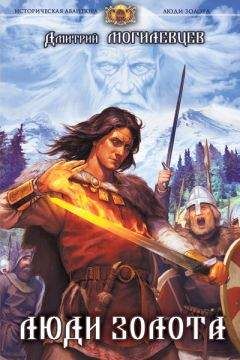Но тут я сказал сам себе: всё это – попросту цыплячий писк, рецидив совести. На самом-то деле, если глянуть поглубже, в нутро, – наплевать мне трижды на институт и его обитателей. К тому же не так это просто – академический погром устроить. Половина моего института работает на всех континентах этой дурацкой планеты: в Штатах, Канаде, Бразилии, в ЮАР, в Австралии, в Японии, в Китае, не говоря уже про Европу. Даже на антарктической станции есть парочка оригиналов, отправившихся на годичную вахту подзаработать. Пусть попробуют подступиться, это им не историю громить, которая у нас и так услужливо ложится под любую власть.
Ходил я с полчаса, самое малое, – пока не выключили свет. Но и тогда лежал с открытыми глазами, пока темнота мало-помалу не просочилась внутрь, не склеила отяжелевшие веки. Заснув, увидел во сне Рысю. Теплую, маленькую, совсем близкую. И застонал, шаря руками по резиновой своей постели.
После завтрака – такой же невразумительной бурды с едва теплым чаем – пришел Ступнев. Выглядел он еще хуже, чем накануне, заросший, измятый и наверняка не мывшийся, по крайней мере, с позавчерашнего дня. Он него пахло прокисшим потом и гарью, на рукаве засаленного серого пиджака зияла дыра.
– Пойдем, – сказал Ступнев хрипло.
Я покорно пошел. Шли мы на этот раз недалеко и недолго. Поднялись, спустились. Ступнев остановился перед обитой жестью дверью, сунул ключ в замочную скважину. Повернул, пропихнул дверь внутрь, скрежетнув по полу. За дверью оказалась длинная комната с парой стальных шкафов и узким деревянным столом, похожим на стойку бара. Ступнев открыл один из шкафов, покопался.
– Слава богу, есть. На, держи, – и вручил мне деревянную коробку. – На стол поставь.
Я послушно поставил. Коробка была увесистая, темно-зеленая, со сдвигающейся крышкой. Пенал-переросток. Я сдвинул крышку. Там из круглых деревянных гнездышек торчали желто-лаковые кругляшки – пули. Рядок к рядку, аккуратные и ровные.
– Етит твою, наушники снесли! – Андрей сплюнул. – Ладно, сойдет. Привыкнешь.
– К чему привыкну?
– Вот к чему. – Ступнев достал из кармана пистолет. – Ты когда-нибудь такое в руках держал?
Пистолет был большой, серый и, наверное, тяжелый. От него пахло солидолом.
– Нет, не держал, – сказал я, глядя на оружие. – Ты знаешь, я не уверен, что хочу держать.
– Мне тебя отвести назад, в твою конуру?
– Нет, не надо. Я… я ведь согласен, так? Без этого разве никак нельзя?
– Какой же ты террорист, если ствола в руках не держал?
Вообще говоря, стреляющие вещи я пару раз в руках держал. Когда-то, еще в школьной юности, развлекался с мелкашкой. Слабенький патрон, крохотная мягкая пулька. Даже отдачи почти никакой – так, сухой треск, и в мишени-фанерке появляется очередная дырочка. Еще в школе меня учили разбирать-собирать автомат Калашникова. Я даже стрелял из него – положенные по норме НВП десять патронов, орущий старшина, быстрее, быстрее, другие ждут, скачущий в руках автомат, посылающий пули куда-то в овраг за мишенями, на которых и круги-то почти не различимы. Но это было как-то не взаправду, не по-настоящему. Как подъем с переворотом – сделал, пыхтя, и слез. Ощущения, что держишь в руках что-то опасное, ощущения настоящего оружия не было. А вот здесь… он был действительно тяжелый, этот пистолет. И так лежал в ладони, что его тяжесть была к месту, будто продолжение кулака – увесистое, твердое. Он даже согрелся как-то незаметно, будто заранее подстроился под тепло ладони, чтоб не показаться чужим.
– Что, нравится? – усмехнулся Ступнев. – У меня тоже поначалу, будто бабу лапаешь. Потом привык. Просто кусок железа. Дай-ка сюда. Смотри: здесь нажимаешь, и магазин выходит. Вот эта коробочка с пружинкой и есть магазин. Вот так патрон вставляется, сильно жать нужно. На, попробуй… На патрон давить не бойся, он не стеклянный. А вообще говоря, патроны проверять нужно. Смотреть: не болтается ли пуля, не кривой ли, не поцарапанный ли, и всякое такое… Теперь возьми в руку. Держи несильно, но крепко, как ложку. Тут предохранитель на рукоятке, пока не сожмешь – не выстрелишь. Главное, ты запомни – из пистолета стрелять непросто. Никаких навскидок, молниеносных выдергиваний из кармана, стрельбы от пуза и прочего. Пистолет, он короткий и легкий, чуть поведешь, и уже за молоко ушло. Руку держи ровно, на уровне глаз. Нажимаешь на крючок на выдохе, понял? Если хочешь, можешь второй рукой поддерживать, за кисть. Вот так. Ну, пробуй. Видишь, там вроде полочки на стене, и жестянка на ней. Ну, давай! Сильнее нажимай, тут же автовзвод!
Пистолет шевельнулся в руке, как живой. В комнате вдруг стало очень тихо, будто щелкнули невидимым тумблером. Я, скосив глаза, подсмотрел, как кувырнулась по столу гильзочка – блестящий желтый цилиндрик. Беззвучно, совсем беззвучно. Андрей, глядя на меня, беззвучно же раскрывал рот, как рыба. Я улыбнулся ему и всадил патрон за патроном в белую стену вдалеке. Там, как умирающий зверь, после каждого выстрела подскакивала и металась по полке искореженная жестянка.
Генерал Шеин не спал вторые сутки. Его трясло от страха и ярости. Подозрение, двадцать четыре часа назад бывшее смутным кошмаром на самом краю реальности, превратилось в черную, кременно-твердую уверенность. Он, Шеин, – всего лишь пешка, жалкая пешка в комбинации, разыгранного вульгарным, недалеким, пещерно-хитрым человеком, стравившим своих врагов, когда они стали слишком сильными, чтобы свалить их себе под ноги и снова подпереть свой зашатавшийся трон. Руками его, Шеина, разгромлена обнищавшая армия, разгромлена так, что ее теперь проще создать заново, а не восстанавливать. Разгромлены остатки армейской разведки, обескровлено республиканское Управление, прекратившее все операции внутри страны, даже вялую свою активность по расследованию того выстрела на площади, будь он тысячу раз проклят! Сотни изувеченных, выволоченных в ночь из постелей, брошенных на грязный асфальт за колючей проволокой. Всё – его, Шеина, руками. Вся кровь и грязь.
И как ведь всё вроде бы гладко выходит! Всё получается, все повинуются. Войска МВД и спецназ, переданные под его командование, послушны и эффективны. Вот только все попытки заменить офицеров на своих, комитетчиков, будто горох об стену. Комитетчиков принимают, приказания исполняют – но только после того, как их повторят свои офицеры. А еще есть Лошица. Больной воспаленный зуб. Нет, не зуб даже – гангрена на всех его, Шеина, планах. Первая точка приговора. А он-то недоумевал, почему «эскадрон», мать его, с ума сошел, бегает свои кроссы, будто он где-нибудь под Саратовом, а не в сердце страны, заболевшей войной. Как же, кроссы бегает.
Вот за них-то, ублюдков, и стоило взяться в первую очередь. А то они сейчас в Сергей-Мироновске этом сраном, в кубле этом, кроссы бегают. Быдлу автоматы раздают. Дезертиров собирают. А с ними на пару друзья-коллеги из республиканского. Помирились, гляди-ка ты. Что ты им пообещал, колхозник усатый? Или просто стравливать надоело? Шеин погрозил потолку кулаком. Потом грохнул им по столу.