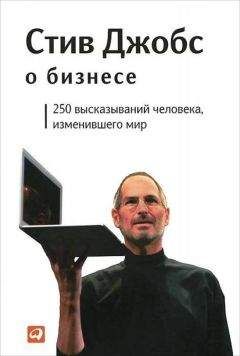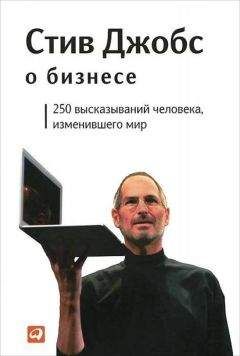– Это… Это… – Американец налил еще стакан, обильно проливая мимо. – Любовь к родине!
Он попытался встать и спеть гимн Соединенных Штатов Америки, но Таманский усадил его обратно.
– Любовь к родине? Хорошо. Вот давайте, Билл, начистоту. Вам доставляет удовольствие тот факт, что ваши самолеты бомбят вьетнамцев и заливают джунгли напалмом?
– Ну… Черт, это же вьетнамцы! Они же коммунистические эти… – Американец покосился на Костю. – Простите, Тамански, а вы коммунист?
– Да! – впервые с гордостью ответил тот.
– Надо же! – Джобс был поражен. – Я тут пью с коммунистом, оказывается!
– Не увиливайте, Билл! Вам нравится то, что ваши солдаты убивают мирных жителей во Вьетнаме?
– Каких, к черту, мирных жителей? Вы там были?! – вдруг завопил Джобс. – Вы там были?! Эти проклятые коммунисты в любой момент готовы метнуть вам гранату в машину! Они же не умеют воевать! Не умеют! Чертовы узкоглазые подонки! Прячутся в своих долбаных… Вас там не было, Тамански! А я был!
Костя отмахнулся.
– Так вам нравится это или нет?
– Нет! Вашу мать! Нет, мне это не нравится!
– Но ведь это же предательство по отношению к интересам вашей страны, Билл. Настоящее предательство! Вы, поди, и в демонстрациях участвовали?
– Ну… – Джобс скорчил грустную физиономию. – Участвовал… А вас там не было!
– Хорошо, хорошо, не было. Но вы же понимаете, Билл, Америке нужен Вьетнам! Вы там раскидаете свои ракеты… Для вас нет ничего святого, Джобс. Вы не любите родину!
– Долбаный коммунист, – резюмировал Джобс и рыгнул. – Я пойду узнаю, есть ли у них комнаты.
Американец поднялся и, заметно качаясь, направился к стойке.
«Чего это меня понесло про капитализм-то? – удивился сам себе Таманский. – Вроде и выпили не так много. А какая-то кухоньщина полезла. Нехорошо как-то, еще обидится…»
Когда Джобс вернулся, Костя сам налил ему остатки сивушного пойла.
– В общем, вы, Билл, не берите близко к сердцу. Мне, в общем-то, Америка даже нравится.
– Что там может нравиться? Дерьмо, а не страна! – грохнул Джобс кулаком по столу. – Вас там не было! А я был. Дерьмо и кровь, вот что я там видел. А интересов своей страны я там не нашел! – Он вздохнул. – Пойдемте спать, Тамански. Вы мне нравитесь… Вы романтик. Че Гевара. Все эти истории про то, как можно свалить капитал. Вы романтик, Тамански. Это хорошо.
Ночью ему снился странный сон.
Таманскому казалось, что у него болит нога. Так болит, что ступать на нее почти невозможно. От этого он сильно хромает и большую часть времени просто лежит на составленных вместе скамьях. Лежать жестко, но уже все равно. Болит, ноет каждая жилка. От перенесенного напряжения он несколько ночей не спал, голова кружится, но не заснуть.
«Еще успею, – думает Таманский и тут же спохватывается: – Успею ли? Утром… Утром все кончится».
От немытого тела пахнет потом и порохом. В груди сипит. Астма.
«То-то будет забавно подохнуть, пока они меня сторожат… Обмануть всех. Обмануть…»
Таманский повернулся на бок. Закрыл глаза. Именно так лежал Моралес, словно заснул. Только рубашка на груди пропиталась красным.
Костя беспокойно заерзал, упираясь руками, сел. Осмотрелся.
Земляной пол. Грубые столы и скамьи. Пахнет сыростью. Черная доска на стене, вот и все достояние этого класса. Тут учатся дети…
Он потрогал раненую ногу и порадовался тому, что кость не задета. Поправил повязку. Тело действовало самостоятельно. Будто бы на что-то надеясь.
«А ведь у них нет смертной казни. Ее отменили… – вдруг всплыло в голове. – Значит, будет суд?»
Таманский представил, как его, заросшего, раненого, в арестантской робе привозят в зал суда. Собираются защитники, обвинители. Судья выходит в накрученных буклях парика. Толстый, но с трясущимися губами. Почему-то судья представлялся именно таким: толстым и с красными трясущимися губами. Собирается публика…
Хотя нет. Публику на суд не пустят. Побоятся.
Все, что ему нужно, – дать отвод адвокату, все одно от него пользы нет никакой, и защищаться самому. Все-таки жаль, что не будет зрителей. Уж он бы нашел что сказать этим людям, чьи дети учатся в нищих школах, где пахнет гнилью и плесенью, а в углах шебуршатся крысы. Нашел бы…
«О чем я? – Таманский встряхнул головой. – Суда не будет. В этой стране нет даже надежной тюрьмы. Меня просто расстреляют на рассвете. Хорошо бы перед этим увидеть солнце…»
Откуда-то он знал, что не будет никакого суда, что просто откроется дверь и солдатик, салага, которому выпала неудачная монетка, войдет в комнату. Уже основательно выпив для храбрости. Но от виски у солдатика будут только руки трястись… От виски и от страха.
«Хорошо бы увидеть солнце… Не хочется подыхать в темноте».
Почему-то это казалось Косте очень важным.
«Но во двор не выведут. Побоятся. Хотя… – Он снова осмотрел себя. – Чего тут бояться? Я уже ничего не могу… Только смотреть в глаза тем, кто все-таки решится меня убить. Только смотреть в глаза… Вот чего они так боятся. Этого страха. Который испытывают все палачи в мире. Их охватывает ужас при мысли о том, что эти глаза, этот взгляд они будут видеть каждую ночь! И всякий раз, закрывая веки, они будут вспоминать…»
Таманский напрягся, очень осторожно свесил ноги со скамьи, опираясь на ее край, встал, стараясь держать вес тела на здоровой ноге. После двух неудачных попыток ему это удалось. Держась за стены, он добрался до окошка, почему-то забранного решеткой.
«Зачем в школе решетки? Какая гнусность, давать детям знания за решеткой…»
Снаружи доносились обрывки разговора. Солдаты, стоящие на посту, переговаривались между собой.
Вдруг ему стало смешно.
«Их страх я чувствую даже через стены. Чего доброго, после моей смерти они снесут и эту убогую школу, чтобы выбросить из памяти все связанное со мной… Может быть, построят новую».
Внезапно сознание Кости поплыло. Он вдруг понял, что это совсем не он находится в деревенской школе в местечке Вальягранде. А кто-то другой. Кто? И где сам Таманский? Почему это страшное сновидение такое яркое, живое? Запахи, боль, страх свой, страх чужой… Все реальное, настоящее.
Кто же это? Кто стоит с простреленной ногой на холодном земляном полу и ждет, когда лейтенант Марио Терана войдет в двери и попросит сесть?
– Зачем? – ответит кто-то. – Ты можешь убить меня и так.
И посмотрит в глаза. Посмотрит в глаза так, что лейтенант развернется и выйдет. Но его товарищи втолкнут его назад.
– Целься точнее, – скажет этот кто-то, продолжая смотреть и смотреть ему в глаза.