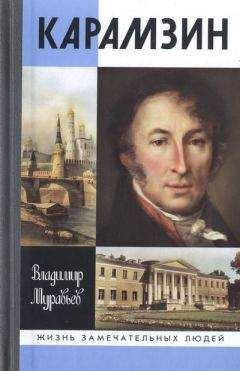«Воин тем отличен от крестьян и рабов, что способен справиться со своими эмоциями, он потому сильнее слуг, что является господином своего тела и повелителем своей души. Незамутненный разум его сияет яркой звездой в ночном небе, и воля его непреклонна» — вновь и вновь юноша повторял про себя эту фразу из Кодекса чести, присутствуя на свадебных торжествах друга.
Но если прежде Олег равнодушно взирал на смерть, то совершенно неожиданно жизнь, совсем еще крошечная, беззащитная перед опасностями этого жестокого мира, всколыхнула его душу, как порой ураганный ветер вздымает темные волны Миуса.
― Мои соболезнования, Карина умерла, — сказал старейшина. — Ты знаешь, так бывает, но дочь твоя здравствует, и ей найдут кормилицу. А пока можешь подержать ее.
Молодой воин смотрел на лежащий в ладонях маленький сверток из ткани, застиранной до серого цвета, смотрел растерянным взглядом, не понимая, что же с ним делать, и тут в пеленках что-то шевельнулось... Боясь уронить оживший вдруг кулёк, Олег неловко прижал его к груди. Может, девочка дернула ножкой или ручкой? Или просто повернула головку на бок? Юноша не заметил. Но слабое движение совсем еще беспомощного существа показалось чудом из чудес. На какие-то доли секунды Олегу вдруг почудилось, что в этом крошечном человечке ожила его сестра, которую он почти не помнил, и, конечно, мать, о которой он старался не думать, и бабушка, которую он никогда не видел, и еще длинная вереница женщин, умерших давным-давно...
Сильные руки бойца дрогнули, и внутри, в самом центре груди, сначала что-то сжалось, а потом стало вырастать чувство, причиняющее боль. Олег испугался, как не боялся в день битвы с гидрами или в ночь посвящения в мужчины, — он поспешно отдал младенца какой-то женщине и вышел вон.
«Лучше бы ты не рождалась», — подумал новоиспеченный отец.
А на шестой день кормилица заметила у девочки отклонение — кошачьи зрачки. Естественно, она отказалась нянчить новорожденного выродка. Да кто бы не отказался? Это рабы могут плодить уродов, а от элиты — только здоровое потомство. Так было установлено уже много лет, и Олегу никогда не приходило в голову спорить, но неудержимая тревога не хотела подчиняться разуму... и даже воды Миуса не могли поглотить её.
И вот Олег стоял на берегу возле рыбацкой станции, рядом с дамбой и теребил перевязь казацкой шашки. Обычно один лишь взгляд на этот редкий в нынешние времена клинок наполнял сердце гордостью, внушал уверенность в собственных силах — ведь владеть подобной вещью мог далеко не всякий. Во всем Лакедемоне таких счастливцев и двадцати не набралось бы, а остальные воины были вынуждены довольствоваться работой местного кузнеца-умельца, что ковал мечи и тесаки из автомобильных рессор, но разумеется, эти грубоватые самоделки не слишком хорошего качества ни в какое сравнение не шли с холодным оружием, изготовленным задолго до Великого Коллапса. Отец Олега привез эту шашку из первого Азовского похода, и когда юноша получил клинок в наследство, то именно его превосходно отполированная, украшенная травлением и гравировкой сталь помогала справляться с горем потери, но сегодня ничего из проверенных средств не сработало, и юноша до боли в пальцах то сжимал, то разжимал цевье «Сайги», блуждая взглядом по поверхности реки. Волн не было — в тихую погоду возле дамбы их вообще никогда не бывает.
Чуть поодаль три крестьянина-рыболова нагло препирались с инспектором. Олег не помнил, как звали этого пузатого человека, одетого в грязный плащ и потрепанный камуфляж, — Осипчук или Осипенко, — но оплывшее лицо, мясистый нос, свисающий почти до верхней губы, маленькие, близко посаженные глазки, со злобой смотревшие на мир, а также вечно надутый вид внушали откровенную неприязнь.
― А я говорю, — ревел инспектор, брызгая слюной, — это дерьмовая рыба, и полные трудодни я вам не засчитаю, от нее фонит — мама не горюй.
― Как вы можете знать, — возмущался самый борзый рыбак в рваной рубахе, — фонит от нее или нет, если последний счетчик Гейгера сдох больше десяти лет назад?
― Нутром чую, — рявкнул инспектор, смешно раздувая ноздри.
― Значит, никто в Лакедемоновке не чует, а вы один чуете? — не уступал рыбак, довольно удачно передразнив характерное движение ноздрями.
― Не смей называть Лакедемон Лакедемоновкой, — прорычал инспектор, и нос его покраснел от гнева. — Это старое название из прошлой жизни, и вообще, вижу, раб, ты заговариваешься!
― Я не раб, — с достоинством ответил рыбак, — я крестьянин, и я свободный. Никто не имеет права называть меня рабом. Я подам жалобу в Совет старейшин.
Инспектор побагровел, затем аккуратно положил на песок ружье и с кулаками двинулся проучить наглеца.
― Я тебе щас покажу права, скотина тупая, — прошипел он.
Рыбак даже не пытался сопротивляться, а только зажмурился, готовясь получить взбучку. Но ничего не произошло, потому что сверху, словно с небес, послышался властный голос:
― Игорь! Прекратить самоуправство!
Все обернулись. На возвышенности возле ворот частокола стоял не кто иной, как сам Роман, один из двух царей Лакедемона, родной дядя Олега. Это был высокий, подтянутый мужчина; возраст почти никак не исказил правильных черт его лица, и лишь запорошил волосы заметной сединой; аккуратно подстриженная бородка темно-русого цвета (которую царь имел обыкновение теребить в минуты задумчивости) под нижней губой не росла вовсе, и там образовывались как бы две полянки в густом лесу.
Пальцы правой руки юноши сами собой сжались в кулак и рванулись к левому плечу — в приветствии.
― Доблесть и сила! — прокричал он в один голос с инспектором.
― Во имя победы! — ответил шаблонной фразой Роман, но руку в ответном приветствии не поднял (такая вольность старшим по должности позволялась).
― Игорь, но ведь рыбак прав, — неторопливо заговорил царь. — Он не раб, а потому не допускай оплошности, будь избирателен в словах.
Инспектор опустил голову и что-то невразумительно пробурчал, стараясь не смотреть на царя, которого давно ненавидел. Показывать свои чувства было ни к чему, ведь это могло только позабавить недруга, который прекрасно знал о собственной неуязвимости. Конечно, сейчас высокое положение защищало его лучше, чем когда-то бронежилет.