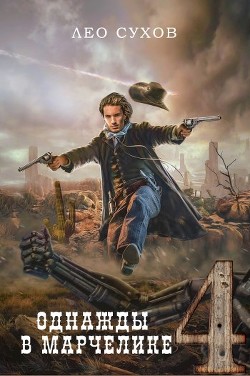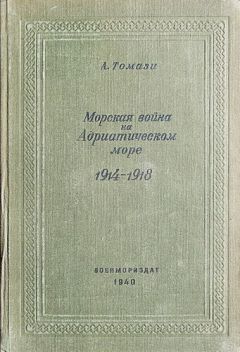Поблизости от холма формировалась очередная группа, собиравшая идти на штурм. Сколько их таких было здесь за последние сутки? Никто из защитников уже особо не считал. Звёздное холодное небо бледнело. Солнечный диск поднимался на востоке, очерчивая чёрную на фоне светила гряду холмов.
Кристиан, как выяснилось, был не единственным, кто смотрел на восходящее солнце. Однако при этом оказался не самым глазастым. Один из касадоров прищурился, а затем резко подался вперёд и удивлённо произнёс:
— А это ещё что за чёрт?..
После чего он снял шляпу и прикрыл ею от себя солнце, чтобы не так било в глаза.
Этот странный жест повторили многие бойцы: дельтианцы, касадоры, солдаты и гвардейцы. А Кристиан просто достал бинокль. Чёрный волл — прямо-таки угольно-чёрный! — и всадник, скачущий на нём. По всему заметно, что очередной касадор.
— Это из наших! — крикнул кто-то за спиной. — Неужели пришли?..
— Пришли, — тихо прошептал старый касадор, вставая рядом с Кристианом, и улыбнулся счастливо, как ребёнок. — Всё-таки пришли…
Гул… Он был едва ощутим, и надо было обладать поистине удивительной чувствительностью, чтобы заметить его в окружающем шуме тысяч и тысяч живых существ. И всё же этот гул медленно, но неотвратимо распространялся по земле.
И не только люди ощущали его приближение. То один, то другой хабл вдруг останавливался: прекращал есть, ругаться, вопить или идти — а затем принимался как-то нервно крутить головой, пытаясь найти источник странного звука.
А гул становился всё громче и громче… То, что создавало этот гул, неумолимо приближалось. И вот уже на гребне холма появился второй касадор, а потом — третий, а потом — ещё десяток. Их становилось всё больше и больше. А вместе с ними утихал далёкий гул.
Утренний ветер шуршал по земле, гоняя пыль и покачивая буйную поросль трав. В наступившей тишине отчётливо был слышен далёкий звук рожка. И с первыми лучами восходящего солнца, осветившего бывшее поле боя, пробежавшегося по окровавленной земле, по серым телам хаблов, по измученным лицам людей, тысячи пышущих яростью воллов двинулись вперёд…
И гул зазвучал вновь. А вместе с ним раздались хлопки выстрелов, грохот орудий и дружный рёв воллов, полный ненависти к древним волосатым врагам. Лавина касадоров покатилась на хаблов, и те от неожиданности сразу подались назад. Не было больше победных воплей, не было воинственных кличей… Был только ужас неминуемой гибели и страх неотвратимой смерти.
Первые столбы земли взметнулись в глубине серого строя. Первые волосатые тела упали на землю. А потом в пыли и грохоте лавина всадников обрушилась на аборигенов, вскидывая в воздух тела несчастных людоедов… И хаблы дрогнули и побежали. Повизгивая от ужаса, бросая деревянные палки, они удирали прочь, спасая свои драгоценные жизни.
А следом за ними катилась лавина всадников-касадоров, которые, наконец, пришли.
Генерал Форестер выругался сквозь зубы, но продолжил стрелять. Основной лагерь экспедиционного корпуса заметно сжался за прошедшую ночь. Внешние укрепления хаблы прорвали ещё вечером, вливаясь сплошной волной, захлёстывая позиции артиллерии, крайние палатки и склады…
Ему не в чем было обвинить солдат и офицеров. Все они сражались на редкость достойно. Но слишком уж много врагов пришло с центральных равнин Марчелики. И слишком уж внезапно навалилась на людей их ненасытная орда. Генерал ещё читал донесения разведки, а первые отряды людоедов уже атаковали позиции войск…
К тому моменту, когда курьеры с приказами кинулись на позиции, уже было поздно организовывать личный состав, сосредоточенный вокруг Мезализы. Такая близкая победа обернулась неожиданным поражением. И, главное, кто нанёс им, гордым староэдемцам, такое жестокое поражение? Волосатые дикари с палками… Утешало лишь то, что это стало поражением вообще для всех людей, а не только для сил Старого Эдема. Правда, слабо утешало в создавшейся ситуации…
Виктор Ола Джокума Форестер не собирался покидать позиции и оставлять людей умирать. Он много лет отправлял на смерть солдат, но всегда был готов принять смерть сам. Форестер любил войну, любил её правила — и собирался командовать до последнего. Он всегда знал, что если однажды не сможет отвести войска — это станет его окончательным поражением.
И оно наступило вчера. Хаблы отрезали группировку войск от основных сил и линий снабжения. Эти серые волосатые существа, как высокий прилив, захлёстывали всё, что оказывалось у них на пути. И когда адъютант подвёл Форестеру волла, тот лишь отрицательно покачал головой…
С каждым часом сражения, с каждым оставленным ярдом, с каждым полёгшим десятком, он оставлял здесь часть себя — свою боль, свою ненависть, свои мечты… Однако свою решимость стоять до последнего генерал ещё сохранил. Пусть ему никогда не стать генералиссимусом, но он хотя бы не превратится в объект насмешек, позор своего рода… Лучше уж остаться в памяти, как тот генерал, который всегда вёл солдат вперёд и умер с честью, не запятнав мундира…
Виктор считал, что за свои ошибки надо платить. И платил. Например, сейчас платил тем, что стрелял и стрелял — наравне с рядовыми солдатами. И понимал, что это всё, что он теперь может сделать. Несколько тысяч защитников лагеря, включая обслугу и даже просто гостей, которым оказалось по пути с армией — как тот же Георг Флинт — все сейчас стояли в одном строю…
Только здесь, на просторах центральных равнин Марчелики, гости из Старого Эдема внезапно осознали, на что обрекли многочисленное мирное население, вторгаясь в земли касадоров. А хаблы текли и текли в сторону Мезализы. Десятки тысяч врагов, сплошным серым ковром с отдельными вкраплениями костяной брони…
Орда, какой ещё не видывали жители побережья, собиралась захлестнуть ослабленный войной форпост человеческой цивилизации. И там, за спиной солдат экспедиционного корпуса, больше не было силы, способной остановить это неумолимое движение врага. Ведь и Старый Эдем, полуразрушенный тряской Эрфы, больше не мог присылать сюда подкрепления.
Это был печальный конец кампании, которую провёл Форестер. И он не хотел стать тем, на кого свалят такую феерическую неудачу. Он хотел быть тем, кто хотя бы сделал всё, что мог. И как генерал. И как офицер. И как солдат.
А потом послышался гул… Низкий, далёкий. Он становился всё ближе и ближе. И хаблы останавливались, переставая рваться вперёд, под огонь винтовок и пулемётов. Они оборачивались в сторону восходящего солнца, прислушиваясь и щурясь. И даже люди вместо того, чтобы воспользоваться моментом, опускали оружие, пытаясь понять, что вообще происходит.
Генерал Форестер тоже прищурился. В задних рядах врагов, на самой границе горизонта, было заметно какое-то движение. Форестер не сразу смог понять, что это бегущие в панике хаблы. И ещё долго он не мог рассмотреть причину их бегства. Отчасти, потому что смотреть приходилось на восходящее светило. А отчасти потому, что эту причину скрывала густая пыль.
И только когда лавина всадников на хвосте бегущих хаблов ворвалась в гущу остальных аборигенов, только тогда генерал наконец-то понял, что происходит… Конечно, он слышал про касадоров центральных равнин. И даже немало прочитал про них в отчётах и донесениях. Однако впервые увидел эту грозную силу фронтира в действии…
Ревущие воллы врубились в серую массу аборигенов, опрокидывая ближайших на землю и безжалостно топча их. Пули впились в серые тела, причиняя боль и страдания. И те хаблы, что штурмовали лагерь, испугались. Испугались того, что возмездие неожиданно пришло. И бросились бежать вслед за более прыткими соплеменниками.
А лавина всадников обогнула лагерь и покатилась дальше, преследуя своего вечного врага. И каждый защитник лагеря понимал, что касадоры теперь не остановятся. Ведь если они приходят, то не для того, чтобы останавливаться…
Опустив голову на руки, Ульрих с трудом сдержал стон. Обидно было, честное слово! Обидно так, как, наверно, не было обидно с того дня, когда он потерял семью… Правда, теперь Ульрих готовился потерять свою жизнь, в которой за последнее время и без того не было ни единого просвета. И поэтому её было как-то даже не очень жалко… Но почему?! За что ему это?!