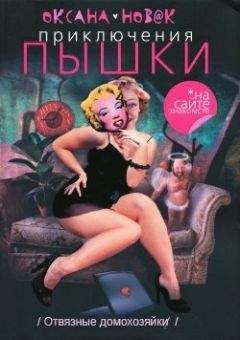Но это было ещё не самое худшее. Оно, «худшее», размещалось глубине помещения, напротив следовательских мест, и человеку несведущему могло показаться связанным с медициной: столики на колёсиках, застеленные белой тканью, на них разложены никелированные инструменты, что-то вроде клещёй, молоточков и крупных игл. Столы большие, типа операционных, оснащённые ремнями и цепями. Кресла вроде зубоврачебных и гинекологических… Однако, ни у доктора Гвейрана, ни у двух контрразведчиков в особенности, сомнений в их назначении не возникло: это было пыточное оборудование.
И именно в этой, пыточной части кабинета, цергард Эйнер заметил старого своего знакомого. Регард Сногр на тот момент пребывал в положении крайне затруднительном: висел под потолком на вывернутых, связанных за спиной руках. Голова его упала на грудь, лицо было обезображено побоями почти до неузнаваемости, с губ свисали длинные нити кровавой слюны. На него даже смотреть было больно, а уж если вспомнить, что при этом чувствуешь… Цергард Эйнер невольно передёрнул плечами, торопливо осенил себя четверным знамением, потому что именно так на его месте поступил бы настоящий монах, и мысленно поклялся отмстить за боевого товарища.
Но тут Сногр вдруг очнулся, и о благих своих намерениях Верховный тут же позабыл — не до того стало. В мутных, пьяных от боли глазах регарда мелькнуло истерическое ликование. Он уже рот раскрыл, он уже взмыкнул что-то нечленораздельное, обнажив окровавленные, беззубые дёсны, но цергард успел его опередить. Никто из присутствующих, двое следователей в том числе, не заметили, как один из монахов сделал быстрый и странный жест рукой. Сначала выгнул кисть горизонтально, словно отмеряя от пола высоту детского роста, потом чиркнул на этом уровне указательным пальцем, резко, по дуге — будто горло перерезал кому-то маленькому…
И глаза несчастного Сногра вмиг погасли, голова вновь упала на грудь. Он получил тот самый дополнительный стимул, благодаря которому человек мог выдержать самые страшные пытки.
Это было жестоко и отвратительно, но Цергард Эйнер был вынужден так поступить. Намётанным глазом контрразведчика он сразу увидел: Сногр узнал его, и уже готов выдать врагу. Он не винил его за это, бывает такая боль, что родину продашь ради одной минуты её отсрочки.
Но у регерда Сногра дома остался маленький сын, здоровый и крепкий, страстно любимый отцом. И ради этого ребёнка он будет молчать, хоть режь его на куски, хоть на медленном огне поджаривай. Потому что намёк цергарда Эйнера увидеть и понять сумел. Но был уже не в состоянии сообразить затуманенным болью разумом, что выдай он сейчас лжемонаха врагу — никто не узнает о его предательстве, и некому будет отдать страшный приказ.
Цергард Эйнер был опытным специалистом и умел чувствовать состояние подследственного. Эту часть своей работы он не любил, но и не стыдился её, когда дело касалась врагов. Но в ту минуту он радовался от души, что инцидент со Сногром прошёл мимо внимания его спутников, что они так и не узнали, и не узнают никогда, какую гнусность — маленькую, почти ничего не значащую, но очень подлую — он совершил для их общего спасения… И так тошно было вспоминать потом о несчастном регарде Сногре, умершем под пытками с мыслью, что человек, которому он верил, которому преданно служил, грозился убить его ребёнка… А хуже всего, что и сам он не был уверен, мучился вопросом, и определиться не мог: если бы обстоятельства вынудили, решился бы он отдать такой приказ, или нет? Чтобы собственную жизнь спасти — нет, однозначно. А ради жизни всего человечества?… Очень, очень страшный вопрос, страшный выбор…
Но в тот момент ему было ещё не до философских размышлений — в кабинет явился новый полицейский следователь, и допрос начался. Это тоже было страшно. Агард Тапри и пришелец Гвейран, по счастью, не знали, что их ждёт, они могли надеяться на лучшее. Но цергарду Эйнеру было прекрасно известно: квандорцы считают достоверными лишь те показания, что получены под пыткой. Архаичное, по-средневековому дикое правило, касающееся и своих, и чужих.
…Военный следователь Аф-Мыжиг был сравнительно молод, но уже неповоротлив, одышлив и толст — болезненное ожирение, не от сытной жизни нажитое, а от дрянной суррогатной пищи. Ни одного зачёта по физподготовке и спецподготовке он сдать не мог (кроме, разве, стрельбы по неподвижной мишени), и любого другого на его месте давно бы уже наладили на передовую в качестве пушечного мяса. Но у Аф-Мыжига имелось два отличительных достоинства: острый аналитический ум и дядя в военном министерстве. Поэтому на службе его продолжали держать, но чтобы не мозолил глаз начальства своим неподобающим видом, заслали куда подальше, на самый передний край, в пропитанный радиацией Выргр: авось да помрёт от лучевых болезней, если раньше бомбой не накроет…
Так, пренебрежительно и цинично, рассуждали чиновники в центральном управлении. Но прифронтовые сослуживцы относились к толстому следователю совсем иначе, с большим уважением. И ценили они его не за дядю — что за дело до военного министерства тому, кто каждый день ходит под смертью? Просто он на самом деле был очень толковый специалист, именно ему непосредственное начальство поручало самые трудные, бесперспективные или неприятные дела.
Новое дело оказалось из их числа. Неприятное. Скользкое. Ошибки в их работе вообще недопустимы, но в этом случае — особенно. Государства разные, государства воюют, но церковь как была единой, так и осталась, и вступать с ней в конфликт крайне нежелательно… Эх, да и не в церкви суть, не в попах с их сладкими песнями! Создателей прогневить страшно — вот главное! Создатели не любят, чтобы обижали их избранных слуг, Создатели карают беспощадно… С другой стороны, окажись монахи ряжеными — это ведь какая удача! Простая полевая полиция обошла саму контрразведку! Задержала разведгруппу из трёх… нет, надо присчитать вон того, что висит — чего ему зря болтаться? — и внести в рапорт… Да, значит, так: силами Выргрского отделения военно-полевой полиции обезврежена разведывательно-диверсионная группа из четырёх членов. Задержанные лица дают показания…
Впрочем, рапорты сочинять пока рановато. Надо сначала их выбить, показания-то… Ах, чёрт, забыл! Нельзя выбивать! Вдруг монахи настоящие?! Очень, очень деликатное дело!
… Минут двадцать он не предпринимал ничего, только покачивался на неудобном казённом стуле, слишком узком для его обширного зада, и внимательно разглядывал новых задержанных.
Они сидели на коленях у стены, почтительно опустив глаза, смирные и безмолвные. Один — средних лет человек. Здоровенный же, чёрт, такого хоть сейчас в гвардейский десант! Двое — «дети болот», очень молоды, но не ровесники. Тот, что помладше — страшненький, убогонький, ударишь раз — и загнётся. Старший… Да, этот другой, этот красавчик, жаль, если и вправду монах… Странно, но почему-то он кажется смутно знакомым… Хотя, все они, мутанты, на одно лицо…