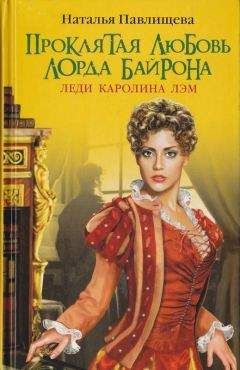Ой и тихо было в зале… На такую тишину, как на стальную цепь, можно подвешивать крепостные ворота — не лопнет, не порвётся… А в единственном глазу Синкэ медленно начал разгораться страшный гнев… Вот с таким взглядом и совершаются поступки, которых потом стыдятся великие и справедливые вожди. И ещё Вадим подумал: а не зарубили бы под горячую руку и Ротбирта… и Эрна — как она будет?
Впрочем, Ротбирт уже сидел верхом на скамье. И лицо у него было такое, что становилось ясно: долго, не долго думай, а он ляжет там же, где Вадим…
…Если бы Вадим хоть движением брови, хоть ноткой в голосе, хоть намёком в позе выдал какое-нибудь волнение — он бы не сошёл с места. Но он говорил спокойно и вроде даже с сожалением. И смотрел прямо.
Во взгляде Синкэ погас гнев. Уже совсем тихо, с обидой, он сказал:
— Я думал, что будет у меня снова брат. Вижу — ошибся.
— Ошибся, кэйвинг, — подтвердил Вадим.
Винкэ вздохнул:
— Что же… ты мне не клялся, верно. Жаль, что уходишь теперь, когда так мало осталось у меня людей. Но держать тебя я не хочу.
— На эти земли придут к тебе ещё многие, — сказал Вадим.
Синкэ сердито фыркнул:
— Что мне твои утешения, я не твоя жена! А это — держи, что стоишь? — он кивнул на полный золотом шлем. — Чтобы не говорили, будто я меняю свои решения так же легко, как треплется на ветру лист на дереве! И это держи! — и он надел цепь на шею Вадима. — Нет ли кого из славных пати, кто был бы против? — спросил он зал, и оттуда не донеслось ни единого "есть такой!"
— Благодарю за честь, властитель Галада, — Вадим поклонился. — Ты и вправду не только храбр и щедр — ты справедлив. И если бы не звала меня моя клятва — не отказался бы я тебе служить и не худшим твоим пати я бы стал. Прости, если можешь.
— Иди ты… куда подальше, — чисто мальчишески ответил Синкэ. — А как уйдёшь — так запомни: все мечи Галада твои в день, когда тебе понадобится сталь.
— Щедрый дар, — искренне сказал Вадим.
Уже через его голову Синкэ спросил:
— Ну а ты, Ротбирт Стрелок? Ты останешься?
Ротбирт встал. Вздохнул так, что кожаная куртка обтянула мускулистый торс. И покачал головой:
— Прости, кэйвинг, но…
— Довольно! — возвысил голос Синкэ. — И меня в глаза называют достойным вождём — да что ж это за вождь, от которого бегут его лучшие люди?!
Тогда Вадим обернулся. Медленно достал из ножен свой длинный меч. И, глядя в лицо юному кэйвингу, ударил клинком о браслет на запястье, выкрикнув:
— Син-кэ!
— Син-кэ! — поддержал Ротбирт.
И воины, вскакивая один за другим, умножали хор голосов и стали:
— Син! Кэ! Син! Кэ Син! Кэ!
И юный кэйвинг склонил голову. В знак признательности. И — чтобы никто не увидел блеска в его глазу.
ИНТЕРЛЮДИЯ. НОВОГОДНЯЯ ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ
Опять на улицах зима и мандаринов свежих запах,
Опять колючих елок ветки и пушистые снега,
Но зайцы и снеговики все подались гурьбой на Запад,
А все Снегурочки уехали на отдых на Юга.
И только генерал Мороз, что в тыща восемьсот двенадцатом
Наполеону отморозил все, что есть в штанах,
Он покачал башкой седой, сказал, что должен тут остаться,
С усмешкой бодрою, умело скрытою в усах.
Китайцы тигров шлют своих, клыкастых, с белыми хвостами,
И каждый хочет съесть тебя, и скалит зубы, и рычит;
Счастливый Санта колу пьет — за деньги снялся он в рекламе,
И сделал "Джингал Бэллс" попсой — теперь он самый модный хит.
И только генерал Мороз, тот самый, что под Сталинградом
Немецким фрицам отморозил все, что есть в штанах,
Он покачал башкой седой, он не купился на награду,
С усмешкой странною, умело скрытою в усах.
В каком столетьи мы живем? В какой стране живем мы, люди?
Куда мы дели, черт возьми, наш старый добрый Новый Год?
И что же будем делать мы, когда мы вовсе все забудем,
И что же сможем сделать мы, когда дух праздника уйдет?
И только генерал Мороз, последний верный сын отчизны,
Последний среди тех, кто любит удаль и размах,
Он покачал башкой седой, он только глянул с укоризной,
С улыбкой горькою, умело скрытою в усах.
И только генерал Мороз, тот самый, что под Сталинградом
Немецким фрицам отморозил все, что есть в штанах,
Он покачал башкой седой, смял этикетку лимонада,
С усмешкой бравою, умело скрытою в усах… {10}
Сорок длинных вёсел, сделанных из крепчайшей, крученой ветрами сосны, в дружных взмахах взбивали воду. Шипящие, протяжные выкрики гонга задавали так. На корме, навалившись на рулевое весло, широко расставив ноги, покачивался кормчий. Нос узкого корабля украшала высоко взметённая на длинной резной шее оскаленная пёсья голова — казалось, гигантский пёс ныряет в волнах, мчится на юг, расталкивая воду широкой, мощной грудью.
"Гармайр", одна из скид молодого кэйвинга Рэнэхида сын Витивалье, анласа из анла-даннэй, властителя Эндойна и носителя Рогатого Венца — плыла на юг, к таинственным дальним берегам, где солнце ходит по небу наоборот и кипит вода.
Эндойн крепко вцепился в море — своей суши у княжества было не так уж и много, но узкие скиды под флагом с единорогом, уже побывали у многих берегов, которых прежде не видели анласы. Они видели неприступные скалы юга континента, вознесённые на высоту, на которой спали седые облака. Они бились с золотыми чудищами данвэ — и нередко не возвращались… но и не все золотые корабли пришли обратно в уютные бухты! Скиды шли и шли — через бури и штили, холод и зной, дождь и туман, вражеские копья и морских чудищ… Шли упорно и отважно, и люди на палубах мечтали не о золоте — они грезили славой и только славой, грезили об островах за туманными горизонтами…
И, верно, потом — через много десятилетий! — новые мореплаватели, идущие уже проторёнными путями, нет-нет, да и будут встречать странный призрак: скиду, на которой скелеты, обтянутые кожей, всё так же сжимают вёсла, и стормен выклеванными глазами, не сгибаясь, смотрел вперёд — туда, где лежит вечный путь мертвецов… и станет ясно — эти гребли до конца! Или найдут на дальнем берегу, рядом с рассхошимся остовом, скелеты в проржавевших доспехах, с источенным временем оружием в костяных руках — и поймут: эти не струсили, когда пришёл последний час…
…Нет, не только Эндойн отправлял свои скиды в неизведанное. Но так уж получилось, что именно на него легла едва ли не половина морских путешествий времён Расселения.
Далеко над водой летела, рвалась клочьями песня, которую — вдохновенно и отчаянно! — орали почти сто здоровых глоток: