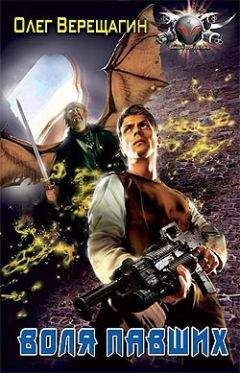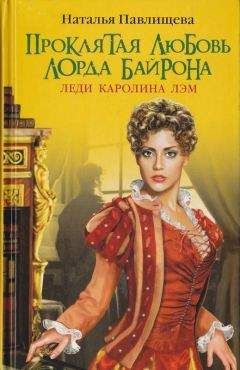Серебряные волосы и огненная борода воина вились под неощутимым ветром, волновались бурными потоками, и Брячко понял, обмирая от восхищения и радости – вот он, Перун! А откуда-то из-за его спины послышался и другой – знакомый – голос:
– Шагай встречь, сын! Вот рука – берись!
– Иду! – изо всех сил крикнул Брячислав. – Иду; отец!..
…Огонь взметнулся выше, стирая черты лица мальчика. Видно было, что он горит – одежда, волосы, кожа – но по-прежнему смотрит на северо-восток, туда, откуда надвигался морской шторм…
* * *
– Были и хангары, и стрелки, и данванов самих трое было. Что мы могли сделать? Они ж все с оружием, а у нас дома, детишки, бабы… – Степаньшин сцепил пальцы и глядел в стол, голос его звучал глухо, как из-под земли.
Гоймир сидел напротив него, сведя кулаки перед лицом и поставив локти между двух кружек с вонючим сивым самогоном – Степаньшин пил, когда пришли горцы. Гостимир замер у дверей, скрестив руки на груди. Йерикка – у стены, опираясь на свой «дегтярь». Олег – вполоборота к окну, положив ладони на ЭмПи, висящий поперек груди.
– Веску сожгут, и поминай, как звали. Ну вот. Старика-то в доме убили. А мальчишку схватили живым. И сожгли на костре. – Последние слова Степаньшин произнес совсем тихо.
Олег чуть шевельнулся – горцы даже не переглянулись.
– Боимся мы их, пойми ты, парень! – вдруг надрывно сказал Степаньшин, хватаясь скрюченными пальцами за ворот. – А ну как снова придут, да и…
– А рубаху-то не мучай, жене работа – зашивать. – Гоймир аккуратно отцепил, нагнувшись через стол, пальцы мужика от ворота. – К нам вон по зиме одно приходили. Знал, небось? А что обратно не ходят – хочешь знать?
– Народ у вас… – Степаньшин спрятал глаза.
– Ой, не надо, язык-то не мучай. Нас в красную пору и полутора тысяч счетных не сыскалось бы. А у вас одних мужиков на круг столько по вескам, – спокойно перебил его Гоймир. – В том толк, что овцы вы. Стричь вас – самое милое дело, ведаю, что говорю, право слово. Куда скажешь – туда они и бегут, а как стрижешь или режешь – одно блеют: «Господи помоги!» – И Гоймир поднялся, возвышаясь над словно бы растекшимся по столу мужиком. – Да вы тут ведь овец не водите? Так я тебе скажу, как их на бойню гонят. Поставят им так в голову барана-подманочка. Они и текут за ним, куда ведет. Хоть на бойню, так-то. Дед мой знал твоего деда. Так ли тот жил, как ты живешь? Да и живешь ли ты?
– Мальчик, – горько сказал Степаньшин. – Мальчик, где те ваши, что против силы встали? И дед мой – где? И отец? Думаешь, нам легко? Но мы живые. А они все – мертвые, мертвые…
– Это вы мертвые, – пошевелился Йерикка. – Каждый день, каждый час умираете. Дохнете от страха и молитесь, чтобы подольше подыхать. – Он скривился, помотал головой и неожиданно прочитал насмешливо:
Паситесь, мирные народы!
Вас не пробудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь… —
Это Пушкин сказал. Был на Земле такой поэт… Ну что, Гоймир, пойдем?
– Здесь постойте. Я разом вернусь, – попросил Гоймир. – Дело сделаю и вернусь. – Он пошел к двери. Гостимир посторонился, тихо сказал:
– Ой, беды наворотишь горячим делом… С собой бери.
– Благо. – Гоймир пожал плечо Гостимира. Помедлил, объяснил: – Один пойду. Был мне Брячко трехродным. Мне и расчет вести…
…Аркашка, сидя за столом, хлебал щи из здоровенной миски. Хлебал неспешно, напоказ, что никого не боится – но заряженное картечью охотничье ружье (разрешенное!) лежало рядом на лавке.
Сцыпину было тревожно. Куда-то пропали городские сопляки, за которыми он специально ездил в Виард Хоран, чтобы их руками сорвать сделку со Степаньшиным – в надежде срубить бумагу на торговле с горцами. Если попали в руки данванов – по головке не погладят, хоть он и выдал, не задумываясь, прибывших к нему (как и рассчитывал!) гостей.
В окно постучали – размеренно и негромко. Аркашка поднял голову – и схватился за ружье, схватился, как за последнюю свою надежду… да так оно и было на самом деле!
Гоймир выстрелил прямо через окно – выстрелил не из ППШ, а из ТТ через прозрачное, как родник, привозное с юга данванское стекло. Мягкая пуля 7,62 мм пришлась Аркашке в правое плечо, развернула вокруг себя и бросила через лавку, в угол. Ружье загремело по чисто выскобленным доскам пола. Плечо, рука, часть груди разом онемели. Подвывая, Сцыпин зажал ладонью рану, поднял голову – и увидел бешеные, широко поставленные светлые глаза невесть когда успевшего войти горца – золотистыми искрами в них горел гнев.
– Сидеть, – услышал Аркашка, и этот голос парализовал его намертво, как заклятье.
– Ы-ы-ы-ы-ыиии… сижу-у… сижу-у… – садящимся, скулящим, каким-то юродствующим от страха и боли голосом простонал Аркашка, зажимая плечо. Жена с дочерью и сыном, выскочившие в горницу, сжались у двери. Мельком скользнув по ним взглядом, Гоймир мягко, бесшумно подошел к столу. – Стало, вот тут ты наших-то принимал, гнусь болотная?
– Ы-ы-и… за ни-им… за ни-им… – Аркашка корчился в углу, рука висела плетью, кровь капала на пол, собираясь в черную лужицу.
– Много ли взял за них? – спросил Гоймир, шагая обратно и не сводя глаз с Аркашки, вжавшегося в стену. И того вдруг прорвало:
– Гоймир! Не надо! Христом-богом! Не надо! Не хотел! Заставили! Грозили! Семья! Детишки! – стуча коленками по полу, с искаженным лицом Аркашка бросился к Гоймиру, ткнулся в мягкие сапоги, начал целовать их – истово, словно икону. – Гоймир! Не надо! Не убивай! Родненький! Матерью твоей! Не надо! – Он поглядел на горца снизу вверх со смертельным ужасом и сумасшедшей надеждой в плачущих глазах, кривя мокрый рот. Увидел там что-то такое – в этом сером, с золотыми искрами – и завыл бессмысленно, цепляясь здоровой рукой то за штанины, то за мохнатые ножны меча, то за сапоги, то за руки Гоймира, которые тот отдергивал с гадливой гримасой на лице: – Не! Не! Не-е-е! Я! Меня! Ы-а-а-а! bl-a-a-а… до!!!
Животный страх пленкой остывал в его глазах, неотрывно глядящих на единственного настоящего бога, в которого сейчас верил Сцыпин – на Гоймира.
– Ты, вижу, трясешься – тебе та же смерть, что Брячко. будет, – размеренно сказал Гоймир. – Не трясись. Что за радость труса мучить – от него в последний час смердит стократ больше, чем по жизни… Я тебя быстро сведу, перевет. Молись богу своему.
Рывком подняв икающего и пускающего слюни Аркашку, Гоймир страшным ударом всадил камас ему в живот и рванул лезвие, распарывая внутренности. Толкая Сцыпина перед собой, подвел к двери – тот смотрел бессмысленно и умоляюще, словно еще на что-то надеялся, и молчал. Потом вновь повернул лезвие и вогнал его изогнутый конец за ребра, в сердце.