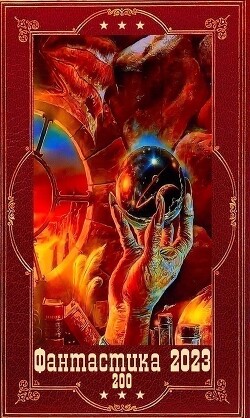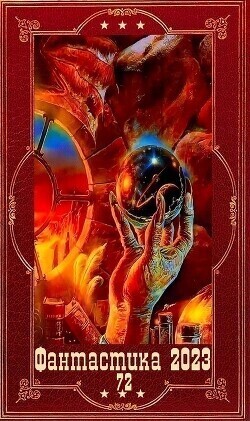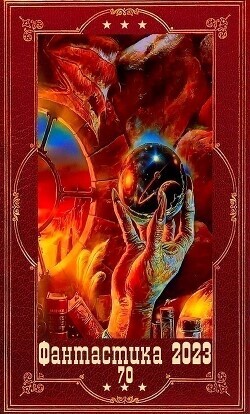земля, и пламенный меч длиной с секвойю рушится на мой дом, ломается о конек крыши. Но тот трескается, стены оседают, и вместе с ними оседаю я, горячее шершавое щупальце уже в сердце, он здесь, он торжествует, он смог, он пробился.
Мой Ключ звенит тысячей струн, и низким басовитым гудением отзывается Ключ Черного. Ворочаются в тайных укрытиях другие семь, прислушиваются, не настал ли их час, День Мечей и Секир, День Убийства Братьев, не порвал ли Волк привязи, не всплыл ли из моря Змей, не отчалил ли корабль из ногтей мертвецов, не готовы ли восстать на битву люди, которых мы учили все эти жизни?
Ибо только они, крылатые смертные боги, – шанс этого мира на спасение, шанс всех миров на спасение, шанс человечества на спасение.
– Я уничтожу тебя! – ревет Черный, и руки отказываются мне повиноваться, ими завладевает чужая воля, огненная и темная.
– А я тебя – нет, – говорю я.
Я разжимаю свой разум, и Ключ падает на стол, разлетается серебристой пылью.
То же самое происходит и с Ключом Черного, только тот распадается на оранжево-черные кристаллы.
– Что ты сделал, Седой? – звучит у меня за спиной, и поскольку мое тело снова мое, я поворачиваюсь.
Ученики больше не смотрят на нас, мы только вдвоем, едины в едином пространстве. Я посреди библиотеки, у стола, в окружении разбросанных книг, и Черный – тут, рядом, вокруг, в каждой изломанной тени на стене, в щелях на потолке и полу, всюду мерцают его гнилушки-глаза, всюду течет, змеится его мрак, пойманный, бессильный, не способный вырваться, угодивший в ловушку.
Но мое жилище и я – мы основательно пострадали в битве.
Трещины в стенах и потолке, разошедшиеся половицы, покосившиеся рамы, через них тянет ночной сыростью, на чердаке свищет ветер, фундамент осел; и сам я двигаюсь с трудом, суставы заедает, кости ломит, голова трещит, ребра болят, словно по ним били ногами. Но я радуюсь, поскольку Янтарь свободен от Черного, и мой ученик вернется, несмотря на обиду, на злость, на разочарование во мне.
И я отправляю ему зов.
* * *
Она врывается на кухню, словно буря, несущая запах цветущих яблонь…
Она врывается, точно метель в сплетении белых волос, в сверкании голубых глаз…
Она врывается… я не вижу это, а чувствую.
– Что ты наделал?! – кричит Луч. – Ты достал Ключ? О нет!
Она не одна из нас, девяти, но в мире, в мирах много разных сил, много разных существ, и не все из них люди, не все из них боги, не все исполины, не все карлики, не все чудовища или порождения туманной Смерти.
И Луч знает многое.
В медном ковшике на печке снова варится глинтвейн – зира и грецкий орех, лимонник и горная вишня.
– Я пленил Черного, – отвечаю я, не оборачиваясь, я жду, что она подойдет, как всегда, обнимет меня.
Но Луч остается у двери.
– Ты достал Ключ! Ты едва не повредил его! – в голосе ее кипит расплавленное золото, бушуют вихрем осенние листья, бурые и алые, и мех на тяжелом сером платье колышется, по нему бегут крохотные волны, темная-светлая, темная-светлая, темная-светлая.
Мне не нужно смотреть, чтобы это видеть.
– Я вернул Янтаря, – говорю я.
– И чуть не уничтожил Ключ Черного. – Луч смотрит на меня с ужасом, с осуждением. – Гор корни, жен борода, слезы железа, кошачьи шаги, все вместе сплети, и получишь ты узы, крепче которых под солнцем не видели… Но только не трогай Ключей ты заветных, но только не трогай опор ты всесветных, не трогай, не трогай ты их никогда! До часа последнего.
Тени в углах кухни сгущаются, набухают тяжестью, жидкость в ковшике не бурлит, а шипит, словно в посудину влезла змея.
Янтарь входит, сгорбившись, и я не узнаю его, он кажется старше на десять, на двадцать лет. Волосы неопрятными сосульками висят на лбу, щеки покрывает сетка морщин, он ковыляет, спотыкаясь, плечи обвисают и руки трясутся, весь он бело-серый, ночной, цветет лишь изумрудная серьга, лист омелы.
– Что… ты… сделал… со мной, Седой? – хрипит он. – Зачем притащил обратно? Набросил аркан, задушил мою волю… Не ты ли говорил, что свобода превыше всего?
Луч отступает к стене, прижимает ладони к побледневшим щекам.
– Ты пришел сам, – я делаю шаг к Янтарю, и он отшатывается, пытается отступить, но не может, что-то ему мешает.
Я поднимаю руку, чтобы положить ученику на плечо, ободрить его.
Теперь…
Я не успеваю ничего сделать – в очаге с грохотом распахивается огненная глотка, змеистые тени прыгают со всех сторон, впиваются острыми клыками в шею, запястья, колени и спину. Черный вырастает посреди кухни, словно выныривает из моего левого глаза, более не закрытого повязкой, под ногами трескаются каменные плиты, их сестры в стенах начинают выпадать с надрывным карканьем, одна разбивается о печку, другая бьет меня по голове и разлетается на осколки.
Луч с жалобным вскриком исчезает.
– Что, Седой, думаешь, ты пленил меня?! – голос этот отдается громом у меня в голове. – Нет, не сковали еще цепи для пламени!
Он прыгает на меня, как лавина из тьмы, я вскидываю руки, закрывая лицо… и обнаруживаю, что мы на кухне вдвоем: я стою на коленях, а Янтарь, молодой и прекрасный, как раньше, смотрит на меня от двери. Сверху больше нет крыши, через кривой пролом заглядывает любопытными глазами звезд черное небо, и на полу блестят разбитые стекла, точно замерзшие слезы.
Я каждой жилкой тела ощущаю, что дом держится из последних сил, что целых окон в нем не осталось, стены покосились, углы разошлись, мебель сделалась трухой под зубами древоточцев. От забытого, обуглившегося ковшика тянет злой гарью, и все вокруг перемазано сажей, даже пол совершенно черный.
Ключ висит в воздухе, истощенный, погасший, но вижу его только я.
– Ты слаб, и ты проиграл, – говорит Янтарь, но в голосе его, что странно, нет прежнего ожесточения.
Он осматривается, и гладкий лоб идет морщинами, словно танцуют на плоти, рисуются на коже языки погребального костра, куда воздвигли громадную ладью, и горюют вокруг, оплакивают уходящего в Туманный мир живые существа со всего света…
– Я ухожу, – он будто уговаривает себя.
В первый раз Янтарь произносит эту фразу, когда чертог мой высится во славе и силе, служит для меня надежным приютом, и волчьим воем гремит она, вызовом на смертный бой. Повторяет Янтарь ее, когда жилище мое не крепость и не храм, а руины, приют тоски и горечи, но теперь она звучит мольбой о возвращении.
Что-то изменилось в нем.