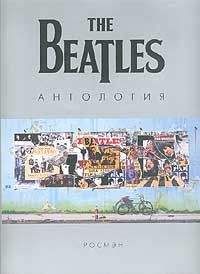И все же он не мог забыть родной Мэн. Море здесь было пресным, теплым, — совсем не таким, как дома; Эндрю тосковал по восхитительной прохладе осеннего бриза, по пронизывающему зимнему туману, кристальной голубизне летних дней, невыразимо прекрасных. Он, разумеется, не стал бы теперь ничего менять в своей жизни. У него была Кэтлин, были дети и была мечта, достижению которой он отдавал все свои силы, — освободить людей, живших в этом кошмарном мире. Но, глядя на звезды там, наверху, он поневоле думал о том, как было бы хорошо, если бы можно было вернуть прошлое — беззаботные летние ночи в Мэне, юношескую невинность, — и ему хотелось верить, что это осуществимо.
— Вспоминаешь Мэн?
Рядом с ним стоял Ганс, тоже глядевший на небо.
— Как ты угадал?
— Бог его знает. Интуиция. Я чувствую то же самое. Хочется мира, покоя для жены и сына. Помнишь тот луг на берегу пруда к северу от Огасты, на котором мы как-то сделали привал, когда ты был еще совсем зеленым лейтенантиком и впервые повел роту в поход?
Эндрю вздохнул:
— Ну еще бы! Сноу-Понд под Огастой. Прекрасно помню.
— В тот день все дышало таким покоем! Поднятая ветерком рябь на воде, медленно плывущие над головой белые облака, голубое небо, прохладный воздух. Все такое свежее, будто в первый день творения… Когда я был там, — Ганс кивнул в южном направлении, — то мечтал по ночам, что вот закрою глаза и вновь окажусь в прошлом, на этом лугу.
Они помолчали. После возвращения из бантагского ада Ганс изменился. Разумеется, он оставался все тем же опытным седовласым сержантом — этого у него не отнять, — но теперь в нем чувствовалось что-то трагическое, тоска по тому, чего они никогда не найдут в этом мире.
— Судьба никак не хочет оставить нас в покое, — нарушил молчание Эндрю, по-прежнему глядя на небо. — После окончания последней войны я надеялся, что наконец-то наступит прочный мир. Но он никогда не наступит, по крайней мере при нашей жизни. Может быть, наши дети будут жить без войн, но только не мы. Войны будут вспыхивать снова и снова, бесконечно.
Кивнув, Ганс вытащил из кармана плитку табака и откусил от нее. Машинально он протянул плитку Эндрю, и тот, улыбнувшись, тоже отломил кусок и взглянул на своего старого друга. Это был ритуал, заведенный ими много лет назад, еще там, на Земле. В годы плена одно воспоминание об этом простом жесте вызывало слезы на глазах старого сержанта.
— И почему только испытания сыплются на нашу голову? — вздохнул Эндрю.
— Да просто потому, что нас угораздило попасть сюда, приятель, — так уж случилось.
— Мой карт!
Гаарк Спаситель, довольно ухмыляясь, ответил на приветствие Джурака и Бакта, двух своих помощников, вместе с которыми он прибыл в этот мир через Врата света. С холодным удовлетворением он оглядел собравшихся в золотом шатре командиров уменов и вождей кланов. Ему с трудом верилось, что всего пять лет тому назад он был перепуганным новобранцем, призванным на его родной планете в армию императора для участия в войне с Самозванцем.
«Неужели это был я?» — удивлялся Гаарк. Скорее интеллектуал, чем солдат по своему складу, он ничего не искал на войне и попал на нее по недоразумению, влипув в историю с дочерью ничтожного судейского крючка, который, дабы спасти ее репутацию, заявил, что Гаарк овладел ею силой. Тогда он возмущался и протестовал, но теперь этот эпизод забавлял его, и он думал, криво усмехаясь, что истина лежала где-то посредине.
К тому моменту когда его забрили в солдаты, дни славных побед императорской армии были позади, и, проводив Гаарка в военный лагерь, его семья заказала по нему заупокойную службу. Война превратилась в ожесточенную драку, никто больше не заботился о воинской чести и соблюдении каких-либо правил. Император отступал, а города, еще сохранявшие ему верность, подвергались беспощадной бомбардировке; что же до императорского дворца, то атомные ракеты не оставили от него камня на камне.
Когда Гаарк оказался со своим подразделением в этом мире, он поначалу был уверен, что ему крышка… И вот, надо же, как все обернулось.
При этой мысли он негромко рассмеялся, и все окружающие — вожди кланов, карты племен и командиры уменов — подхватили его смех. Они и сами не знали, над чем смеются, — просто их кар-карт развеселился, и нельзя было оставаться безучастным.
Убедить аборигенов, что он тот самый Спаситель, чей приход предсказывали древние легенды, оказалось до смешного легко. Ему были знакомы эти предания, ибо здешние дикари, несомненно, являлись потомками тех племен, что исчезли с его планеты в далеком прошлом, когда распалась великая империя. Их предки создали Врата света, чтобы путешествовать на другие планеты, но при развале империи умение управлять вратами утратили.
И он был этому рад — к чему такие врата, через которые сюда может запросто проникнуть его соперник? В старом мире он был никем, безликим винтиком военной машины в заведомо проигрышной игре, здесь же он стал Спасителем, вождем бантагской орды, и смог создать собственную империю.
Присутствие на планете людей тоже было очень кстати — без них ему вряд ли удалось бы так легко захватить власть, сплотив племена против общего врага, и не с кем было бы воевать, чтобы вписать свое имя в скрижали истории. Ему вспомнился Шудер. Время от времени Гаарк мог по-прежнему проникать ему в душу, он чувствовал там еще не вполне преодоленный страх и неизжитые страдания. Странно, но порой ему не хватало этого янки. Его интеллект был на удивление хорошо развит для человеческого существа. Гаарку очень хотелось подчинить Шудера своей воле. Тот был одним из создателей армии Республики и мог сделать то же самое для бантагов. Гаарк почему-то был уверен, что еще встретит Шудера. Он с удовольствием побеседовал бы с ним еще разок, прежде чем отправить его в убойную яму.
Бегство Шудера, конечно, не делало кар-карту чести, но найти козлов отпущения не составляло труда, и не один из тех бантагских вождей, что были недовольны им и представляли для него потенциальную угрозу, поплатился головой за допущенную или приписанную ему оплошность.
В чем Шудер действительно навредил Гаарку — так это в том, что теперь ему приходилось развязывать войну гораздо раньше намеченного срока.
Он сделал знак Джураку и Бакту и вместе с ними покинул шатер. Оставив позади удушливую атмосферу шумного празднества, он с удовольствием вдохнул ночной воздух. Невозможно вести сколь-нибудь осмысленную беседу, когда вокруг живьем поджариваются на вертелах люди.
На лице Джурака он также заметил гримасу отвращения.