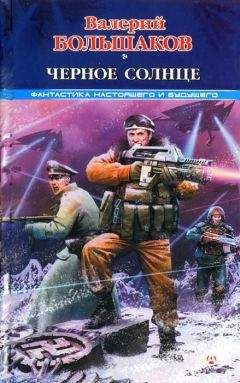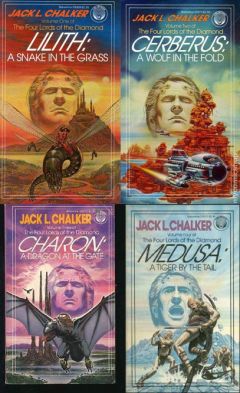Взгляд Сихали заскользил по ажурной застройке, путанице пролётов, галерей, арок, террас, аэрокрыш, висячих садов. Лестницы эскалаторов и спиральные спуски, виадуки трансвея и дышащие атриумы нижних горизонтов, цветные фонтаны и замысловатые каскады водопадов, солнце, засвечивавшее сквозь ванты верхних ярусов, как в бамбуковом лесу, — всё мелькало и справа, и слева, вверху и внизу, расплываясь и пропадая, ширясь в разлёте и стягиваясь в узости.
У Большего канала народ малость схлынул. Вокруг Брауна сплеталась и расплеталась запутанная сеть полос, двигавшихся на шести уровнях, нырявших под узкие полукруглые арки-мостики, уводивших в прозрачные туннели. То выше, то ниже горели яркие цветные указатели: «К СЕКТОРАМ СПИРАЛЬНОГО БУЛЬВАРА», «К ТЕРМИНАЛУ ИЗОЛА», «ВЕРХНИЙ ГОРИЗОНТ — СРЕДНЕЕ КОЛЬЦО БЕЗ ПЕРЕСАДОК».
— Нам сюда! — скомандовал Дженкинс, переступая на полосу, двигавшуюся быстрее.
Тимофей наклонился и поскакал вперёд, с одной ленты на другую, наискосок, пока не добрался до экспресс-платформы, остеклённой и обнесённой перилами.
Нижняя площадка была забита портовыми рабочими, возвращавшимися со смены. Пожав десяток рук, Браун протиснулся к узкой винтовой лестнице и взобрался наверх, где и повалился в мякоть кресла.
Воздух весело посвистывал, обтекая изогнутые ветровые стёкла, и этот привычный звук малость подуспокоил генрука.
Не очень-то он и рвался в руководители, власть была для него бременем, в лучшем случае — инструментом. Конечно, случались и приятные моменты, когда его усилия, умноженные миллионами рук и голов, приносили «положительные результаты», но эта ответственность… Он привык отвечать за себя, за свои решения, был готов возложить на себя обязанности главы семьи, но ощущать за своею спиной не одну лишь Наташу, а десятки миллионов человек… Нет, это слишком тяжёлая ноша, почти что неподъёмная. Ничего, три года он уже отпахал, скоро кончится его пятилетка… Надо родиться Наполеоном, быть дураком или аморальной сволочью, чтобы получать удовольствие от власти, не чувствуя на себе взгляды миллионов глаз. Представил доверившихся тебе людей полуабстрактным «электоратом» — и жируй себе…
…Докеры вышли у «Цитадели», а Сихали со спутником и провожатым спустились по мотоспирали на нижние горизонты, малолюдные, залитые ярким голубоватым светом. И никаких тебе архитектурных излишеств, сплошные транспортные шлюзы, подземные узлы да устья вентиляционных колодцев, окаймлённые огнями. Упадёшь — «скорую помощь» не тревожь…
Здесь отовсюду доносились равномерные гулы и басистые рокоты, а воздух отдавал сыростью.
— Далеко ещё? — пробурчал Тугарин-Змей.
— Мы уже рядом, — сказал Самоа Дженкинс, сворачивая в круглый туннель.
В нос ударил тошнотворный запах гари. Вот оно что… Тимофей похолодел — эстакада трансвея впереди была обрушена, длинное тело многосекционного вагона свалилось прямо на платформу, а концевая секция свешивалась ещё ниже, придавливая сцепку контейнеров. Киберуборщики шустро мыли и скребли закопченную платформу, а роботы медслужбы стояли неподвижными столбиками, как суслики у норки, — самый страшный груз они уже доставили куда нужно.
— Жертв много? — выдавил Браун.
— Пятеро насмерть, — пробурчал Дженкинс, и Харин свирепо засопел.
— Кто? — спросил Илья, сжимая громадные кулаки.
— Вот, — ответил комиссар, вытягивая руку к стене.
Там, на сибролитовой облицовке, была наспех нарисована окружность, из центра которой исходили двенадцать молний.
— Группа «Чёрное солнце», — сказал Самоа Дженкинс, — их знак. Они уже отметились на Таити-2 и в Порт-Фенуа. Взрывают, стреляют, громят — и зачищают. Ни одного свидетеля не оставили в живых, но метку накалякать не забывают никогда.
— Молнии в круге… — задумался Тугарин и приподнял брови в недоумении: — Что за хрень?
— Это не молнии, — сухо пояснил комиссар, — а руны «зиг», такие ещё эсэсовцы рисовали на петлицах. Получается как бы солярный крест, двенадцатиконечная свастика, символ Чёрного солнца.
— Что за хрень? — повторил Илья, хмуря брови.
— Я узнавал… — запыхтел Дженкинс. — Это такой оккультный символ был у нацистов. Чёрное солнце — оно… ну, это как бы незримый центр Вселенной, причина и начало бытия, «первоогонь» высшей расы. Гиммлер с корешами думал, будто Чёрное солнце светит в громадных полостях под землёй, куда войти можно только через Арктику и Антарктиду. Сияние это вроде как способности необычные пробуждает, но восприять его могут лишь истинные арийцы. Вот так вот…
До ушей Сихали донёсся топот — и бластер сам будто прыгнул ему в руку. Тугарин-Змей с Дженкинсом тоже выхватили оружие.
— Вроде тихо… — пробормотал Браун, держа палец на курке.
Самоа медленно опустил бласт и покачал головой.
— Всяко бывало, — молвил он, — и пираты случались, и бандиты, а вот террористов у нас не водилось.
— Значит, завелись, — сделал вывод Тимофей. — Ну ты их тут выводи, а мне в Африку пора. И чтоб я в курсе был!
— Будешь, — пообещал Дженкинс.
— Да, чуть не забыл… С завтрашнего дня я в отпуске. На две недели.
— А… — начал Самоа.
— Дайте человеку отдохнуть, — прогудел Харин с осуждением.
— А генеральное руководство? — договорил комиссар.
— Коллегиально! — отрезал Сихали.
9 декабря, 9 часов 40 минут.
АЗО, оазис Ширмахера, озеро Унтерзее.
Озеро Унтерзее располагалось в сотне километров от станции «Новолазаревская». Чашу озера окружали отвесные скалы в тысячу метров высотой, источенные гротами и нишами, — это ветер так постарался.
Когда же буря стихала, над Унтерзее восставала попранная тишина. Суровая, величественная красота озера и полнейший покой — вот, что влекло сюда Александра Белого, китопаса-валбоя.[21]
Рождённый весёлым и находчивым, Шурик любил смешить — и чтобы вокруг смеялась большая дружная компания, но здесь, на Унтерзее, где душа, чудилось, соприкасалась с вечностью, он молчал, внимая снежной сказке. Его закадычный друг, Шурик Ершов, прозванный Рыжим за огненный цвет волос, и ещё более склонный к шутовству, соблюдал тишину с ним на пару. Оба будто заряжались чистотой, ледяной свежестью и ясностью Унтерзее.
Так было два дня подряд, пока Шурики помогали Олегу Кермасу собирать мумиё со скал, а на третий день стряслась беда.
Это случилось в полдесятого. Шурик Белый только нацелился отломать сосульку мумиё, свисавшую с камня, как Рыжий закричал: «Смотри!»