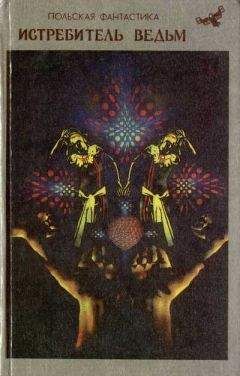— Нет! Нет! Никак! — говорили дети. Кажется, им уж удалось на что-то взобраться, но лишь не выходило с замком совладать, и вот щелкнуло что-то там, с другой стороны, Ф. на дверь налег, и та поддалась.
Ф. просунулся в дверь, и вмиг его окружили десятка полтора замурзанных, зареванных, чумазых детей. Они хватали его за руки, ревели опять. — А ну-ка тихо! — снова крикнул Ф. — Иначе атаман лично надает вам подзатыльников! — пригрозил он. — Вы любите получать подзатыльники?
— Нет! Не любим! Не любим, — возражали ему, впрочем, без боязни особенной. Странно, они, кажется, и впрямь признали его атаманом.
— А мы видели, как вас тащили, — сказал один мальчишка. — Вы тогда спали. А вас тащили. А мы видели…
— Правильно, — сказал Ф. — Атамана вашего заколдовали, но теперь он проснулся и из всех колдунов сделает окрошку.
— И мы пойдем к маме? — спросили его.
— Обязательно, — серьезно сказал он.
Ф. хотел обследовать помещение, где держали детей, он стал его обходить, но тут вдруг услышал звуки, неподалеку, за другой дверью.
— Тихо!.. — строго прошипел Ф. — Вы меня не видели и ничего не знаете! — приказал он и метнулся в свой зал.
Дверь железную он за собою прикрыл, но запереть ее, разумеется, не мог, он остался сразу за дверью и стоял за нею, прислушиваясь.
Что за день такой, что за ночь! Опять ему ждать теперь каких-то новых приключений!..
Из машины они не стали даже выходить, Ш. блевал в свое окно слева, Мендельсон блевал в свое — справа. Наконец они обрушились на сиденья свои оба и долго дышали в беспорядке, понемногу приходя в себя.
— Разве можно смотреть на эту жизнь трезвыми глазами? — Ш. говорил.
— Нет, нельзя трезвыми, — возразил Феликс.
Ш. не хотел принимать никаких возражений, он не согласен был их принимать, от кого бы те ни исходили, все равно бы не согласился принимать Ш. Дружба дружбой — блевотина врозь, сказал себе Ш.; и, чем больше он любил Феликса, тем меньше он готов был с ним соглашаться. Впрочем, и блюющие вместе, они все равно не вполне могли обрести новое содружество, сообщничество и соединение.
— А какими можно? — сказал он.
— Никакими нельзя, — сказал Мендельсон, головою усталой встряхнув.
— Верно, — сказал Ш.
Ночь за окнами была, будто зверь, от которого не знаешь, чего ждать; то ли ластиться станет он, то ли набросится без предупреждения. И лучше бы подальше держаться от этой ночи, да куда же спрячешься от нее, когда она повсюду?! Даже в душах их изможденных тоже она.
— Кто тебя так разукрасил? — спросил Феликс, вовсе даже не глядя на приятеля своего.
— Мир, — Ш. отвечал.
— Прямо-таки и мир? — удивился Феликс.
— Мир in vitro, — сказал Ш. — Мир без примеси, мир без излишеств, мир без помех. Неужели не слыхал?
— Это бывает, — подумав, согласился Мендельсон.
Оба они посидели и подышали еще тяжелым, прокисшим, невозможным воздухом. Воздух был отвратителен, воздух был нехорош, но ничего другого вовсе не существовало ему на смену. О, если б можно было переменить воздух, тогда, как знать, и не возможно ли было бы переменить жизнь?!
— У тебя блевотина была какой стадии? — спросил Ш.
— Второй, — подумав, отвечал Феликс. И, еще подумав, все же спросил: «А что это такое?»
— Первая стадия, — Ш. говорил, — это блевотина-радость, блевотина-счастье, блевотина-облегчение.
Молчание Феликса и кивок головы его были знаком согласия, пометой непротивления, символом консенсуса; пред Ш. открылся оперативный простор разглагольствования, каковой возможно было использовать сполна.
— После блевотины первой стадии возникает легкость, как будто заново родился и пред тобою вся жизнь.
— Про первую я уже понял, — поторопил его Мендельсон.
— Вторая стадия — классическая. Она суть отвращение души твоей и утробы. Это блевотина плотная, энергичная и упругая…
— Тогда у меня третья, — сказал Феликс.
— О, третья стадия великолепна! — сказал Ш. — При третьей стадии пищевод выворачивается, как носок, и кажется, что ты умираешь. Это блевотина-мучение, блевотина-изнеможение.
— Точно третья, — подтвердил Феликс.
— Но мне, конечно, милее четвертая, — сказал Ш.
— Это как это? — поинтересовался Мендельсон.
— Четвертая — это когда наутро в собственной засохшей блевотине находишь собственный аппендицит. Из этой стадии блевотины уже никакого спасения нет, разумеется.
Любопытство Феликса было уже растревожено.
— А пятая? — говорил он.
— Пятая, — отвечал Ш. мрачно, — это когда твоя блевотина сдвигает крышку твоего гроба.
Глаза Мендельсона округлились.
— А шестая? Шестая? — прошептал он.
— Шестая, — сурово сказал Ш., - была только у Бога…
— Когда? — спросил Феликс.
— На восьмой день Творения, — Ш. говорил.
Мендельсон захохотал; вернее, захохотать пытался, всеми силами пытался, но хохот вызвал у него лишь новый спазм, он в окно высунулся, застонал, захрипел, закричал, но стадию третью так перешагнуть и не сумел. Каждая стадия есть отдельный свой подвиг, и всякому человеку положен предел его подвига. Ш. терпеливо ждал друга и, когда тот вернулся, свободный уж от трудов своих рвотных, встретил его стаканом, до краев портвейном наполненным. Мендельсон головою замотал мучительно, но потом все-таки себя превозмог, пересилил и выпил, и Ш. аплодисментами жидкими приветствовал отчаянный поступок друга его. Двух его рук теперь не хватало для аплодисментов и для его нетрезвого энтузиазма, а больше у него не было рук.
— Ш., - сказал Феликс.
— Я здесь, — откликнулся Ш.
— Я могу тебе верить? — сказал Феликс.
— Как себе, — сказал Ш. — То есть — нет.
— Мне нужно, чтобы ты разбудил меня завтра с первым лучом ублюдочного солнца. Ты сделаешь это для меня?
— А если тучи? — спросил Ш.
— Все равно с первым лучом… Ведь я же тебе сказал…
— Зачем? — Ш. говорил.
— Ты забыл, — укоризненно говорил Мендельсон. — Ты забыл так быстро!.. У меня урок.
— Что за урок?! — крикнул Ш.
— История, — отвечал Феликс.
— Все-таки ты скотина, Мендельсон, ответственная скотина, но несмотря на это я отвезу тебя сейчас домой, — Ш. говорил.
— Нет, — сказал Феликс.
— Что еще нет? — раздраженно спросил Ш.
— Не отвезешь. Ты уже не можешь.
— Я не могу? — возмутился Ш.
— И еще нет, — сказал Феликс.
— Что нет? — спросил Ш. Мендельсона.
— Дома нет, — отвечал тот.
— Все, — сказал Ш. со всею возможной беспрекословностью. Он понял теперь, что никогда прежде и не знал своей беспрекословности, и в этом был его роковой просчет. — Мы уже едем.