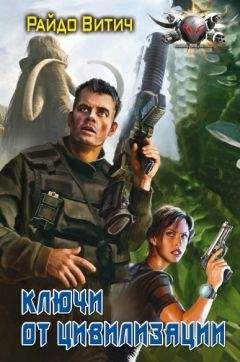— Намекаешь на трусость, дезертирство? — удивился мужчина, испытывающее глянул на женщину. — Не ожидал… Хочу напомнить, я не сбегал, меня выкинули.
— Вы далеко ходили, трасса не отлажена, мог произойти сбой.
— Ага, и всю группу раскидало? — скривился, с сарказмом глянув на Стасю. — Фантазерка наивная.
— Хорошо, что мешает вернуться сейчас и выяснить?
— Пустяк: желанья нет ни впрягаться в это, не мараться, ни подставляться. Я пять лет здесь. Пять! Меня благодетели типа Локлей не подбирали, самому пришлось вгрызаться, как-то жить. Я сам, сам! Получил, что мне надо, с трудом добился стабильности, достатка, наладил связи, спланировал свою жизнь и ломать ее ради… ради чего? Чтобы услышать пустые фразы, фальшивые отчеты увидеть в лучшем случае, а в худшем, оказаться в начале времен… невзначай! Я похож на идиота?
— Ты все за всех решил? Ошибиться не боишься?
— Нет. Ты можешь впадать в сентиментальность, по наивности своей любить и уважать всех кого не лень, воображать, что тебе угодно, но мы не вернемся домой. Мы едем в Норвегию.
Стася молчала, глядя перед собой. Печально, грустно. К кому шла она, зачем?
— А ведь ты не ждал меня.
— Я никого не ждал, я жил. Желаешь осудить меня за это? Пожалуйста. Но тогда и я хочу напомнить тебе о том «индюке», что наверняка сидит сейчас в своем замке и тупо накачивается вином. С горя. "Любовь прошла, завяли помидоры". Хорошая тема, кстати, для пьянства. Потом побуянить можно. Что у вас с ним было? А ведь было, просто так мужчина кренделя такие не выписывает.
— Обвиняешь? — прищурилась, оглядывая Илью: он ли это?
— Как и ты.
— Понятно, счет: один-один. Не противно?
— С чего вдруг? Тебе же ничего меня в трусости обвинять. А как я здесь жил, как вообще выжил, смотрю, ни грамма не волнует.
— А тебя? Как твой брат там, ребята, что нового? Спросить, как я жила без тебя не хочешь? Может еще какие счета предъявишь?
— Малыш, я не хочу ссориться, и готов простить тебя, если кто-то утешал тебя, пока мы были врозь, — попытался обнять ее за плечи, но Стася отстранилась — ей вдруг отчетливо стало ясно, что перед ней не Илья — Иона, абсолютно чужой человек.
— Началось, — усмехнулся. — Ну, подуйся. Или иди вон, опять по обнимайся с индю…
— Он не индюк! — отрезала. — Теофил прекрасный человек.
— Даже так? — прищурился. — Меняешь сходу? Может, правда, замуж за него выйдешь, а я у вас лекарем служить буду. Потом дружно ляжем под мечами крестоносцев Монфора. Аллилуйя.
— Аминь, — кивнула. Встала и пошла в замок.
— Ты куда? Стася!
— Хочу обдумать твое предложение стать графиней Локлей.
Иона упер кулаки в бока, хмуро глядя вслед Станиславе и чуть не сплюнул в сердцах: поговорили! На что, спрашивается, обиделась?
Ну, ничего, час, два — обиды с обидками схлынут, переварит услышанное и поймет: он прав. И будет, как он хотел. Стася умница, вместе они не пропадут.
Стасе словно в душу плюнули. Одна б осталась — завыла. А по кому, чему?
Женщина пошла искать графа и нашла в зале на первом этаже. Он сидел и, как предсказывал Илья, пил. Кувшин вина, один кубок на весь длинный пустой стол.
Стася села напротив и сложив руки на столе, уставилась на графа. Тот замер с кубком у рта, смутился, неловко поставил посудину.
— Плохо? — спросила. Голос тих и уныл. Локлей смутился, почувствовал себя виноватым сначала, потом внимательней на Стасю посмотрел и понял — а его беда-то не беда. Женщина не на ангела, на призрак походила. Взгляд отрешенный и пустой, лицо такое, словно потерялась. Видно общение с Ионой на пользу ей не пошло.
— Он оскорбил вас, огорчил? Я могу чем-то помочь?
Русанова минут пять молчала, а граф все терпеливо ждал и вот, дождался:
— Не пей больше… И не ввязывайся в схватку при Мюре… Хотя, не слушай меня. Все равно ввяжешься, я знаю. Сама бы так поступила… Лучше женись и заведи детей, как можно больше и скорей. Ты хороший человек, граф, таких должно быть много.
— Иона, ваш жених, обидел вас? — осмелился повторить вопрос, по-своему истолковав ее слова.
— Иона мне не жених. Я любила Илью, а его нет.
И смолкла, уставилась в стол. Ей вспомнилось, как она переживала, когда он пропал, как сердце болело и слезы сами рвались наружу день за днем. Как вопреки всему и вся заставляла себя верить, что он найдется, вернется. Как искала втихаря, когда уже его забыли. Как однажды поняла, что тратит время зря и не так его нужно использовать. И стала помогать хоть чем-то, как-то, пристраивать, прикармливать детей насколько можно было тем не вмешиваясь в событья. Пусть одному, пусть десяти, но когда исчезнешь как Илья, подумается, что не зря жила, не просто так по времени бродила и тратила его на благо, ту веру, что в себе порой еле теплилась, в других рождала и силы черпала жить дальше.
Нерастраченное щедро раздавала и не жалеет. А Илью жаль. Нет его. И был ли, сквозь толщу лет уже не разглядеть. Возможно, лишь привиделся, придумался, и некого за то винить. Порой и день меняет человека, ночь мир окрашивает в другой тон, а новый день смывает предыдущий. Не на кого сетовать. Разумная система, в которой трудно жить человеку, но человечеству легче выстоять.
Нет, она не рассердилась, не возмутилась рассказу Ионы, и даже приняла его как одну из возможных версий, но точно знала — даже если так, причины веские на то. Возможно и ее "сольют, скинут", но что один в разрезе вековом в массе миллиардов жизней? Не велика цена один за миллиард.
Стася пододвинула кувшин к себе, хлебнула кислого вина прямо из горла и, уставившись на Теофила, повторила:
— Женись и заведи детей. Успей их научить любить и верить, по совести жить своей, а не чужой, которой порой вовсе нет, мираж один, обманка. Ну, вроде попращалась… Пошла, — и хлопнув ладонями по столу встала. Локлей нахмурился:
— Уходишь?
— Да. Иону гони в шею. Руки не марай, но здесь не оставляй.
И двинулась из зала. Граф рванул за ней:
— Как?… Подожди!… Мой ангел!…
— Тс! — развернувшись к нему, палец к губам приложила, погладила, прощаясь, по щеке. — Спасибо тебе.
— Останься!…
— Нет. Нельзя мне. Не могу.
Больно.
Взять и порвать, вычеркнуть разом — тяжелей и легче. Нужно лишь суметь и сделать первый шаг, а затяни агонию, она тебя проглотит, утянет в бездну больных эмоций, самоедства, упреков, собственной вины, всего того, что можно избежать, если не дать им разрастись, пресечь в зачатке. Да, больно, горько, жутко, как по живому да ножом. Но месяц, два, пусть год — и боль затихнет. Конечно, если понимаешь, что выхода иного нет. А его нет и быть не может, потому что будущего у нее с Ионой нет. Они чужие, разные настолько, что говорили, словно на двух разных языках. Вот жизнь! Пять лет потратить ожидая… разговора, что уложился в пять минут.