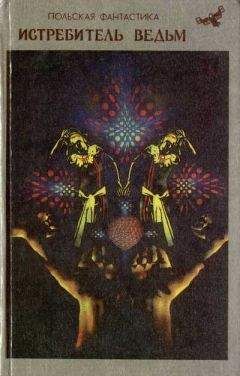И вот уж на экране Нидгу — студент; вот он молодой философ, магистр или профессор философии, читающий лекцию; и перед кем же читает он? Среди слушателей его генералы и полковники, и сами они как студенты, как мальчишки, конспектируют речи философа.
— Я вступил в их ряды, в ряды этих идущих, и они приняли меня, — говорил Нидгу. — Значит ли это, что они принимали меня за своего? Нет, это не значит, что они принимали меня за своего. Среди них были иные, временами откатывающиеся на фланги беззаботности. Но они все видели разницу между мной и собою. Они несли с собой ликование, я с собою нес ужас. Но мой ужас и их ликование соединились, сплелись в безумной торжественной пляске. Их соединение дало основу новых дней наших, дней праздничных, дней триумфальных… Дней блаженных, дней сверхъестественных!..
Экран сделался черен, и зрители думали, что он погас, но он не погас: была ночь на экране, глубокая ночь, потом света немного прибавилось, и можно было даже что-то разобрать. Хотя цвета были странные; возможно, снимали в инфракрасном излучении; и были серые стены, толстые стены храма, с какими-то неясными пятнами, беззвучно остановился фургон неподалеку. Какие-то люди осторожно ходили вокруг фургона. Вот раскрыли его заднюю дверь, заднюю дверь фургона, и на руках вынесли человека, неподвижное тело, и положили на землю. Потом человека показали крупно, на полстены, горло было перерезано у него, кровь уже запеклась и почернела, и люди, стоя возле неподвижного тела, говорили о чем-то. А человек этот был — философ Нидгу.
— Боже мой, пошлость! — думала Ванда. Виски и лоб ее были в испарине, и это была испарина отвращения, это была испарина содрогания. — Какая все пошлость! Жизнь — пошлость, смерть — пошлость! Всякое движение наше — пошлость, и все существование наше таково. Не избавиться от нее, не выбраться из нее!..
— Мне, может, осталось совсем немного, — говорил еще философ, и снова был экран черен, и ничего не было на нем, даже ночь видна не была, — но, и стоя на пороге конца своего, я приветствую будущий праздник, я восхищен его возможностями, я преклоняюсь пред его светом и пред его духом. Я приветствую новый имморализм и новое язычество!.. Армагеддон это праздник!.. Человечество заплутало, и выход для него лишь на путях новой непорочности; на путях новой невинности; там смысл его, этого гнусного человечества, смысл и существование!..
Монитор погас, совсем погас. Бровцын, маленький, тщедушный, стоял пред пустым монитором.
— Бедный мой друг Нидгу, — сказал он. — Как же тебе не повезло!.. Ты попал в руки недостойных людей и за то пострадал. Ты погиб, как Боэций!.. Это плохие люди, это злые люди, и они будут наказаны, — пообещал он. — Однако, — сказал еще Бровцын, — какова сила духа, обратите внимание! Знает о своей смерти — и приветствует праздник! Приветствует праздник, который уже не увидит. Вот он — истинный философский дух!.. И что ж нам теперь остается? Нам остается только исполнить его завет, друзья мои! Праздник продолжается! — крикнул еще Бровцын.
И были аплодисменты, и было ликование, особенное, редкое, невообразимое; казалось, живые и мертвые одинаково испытывают его.
Ночь ощупывала всех и вся своими липкими пальцами. Каждый, кто принужден был в этот час оказаться на улице, как бы он ни был одет, все же непроизвольно поеживался от холодных, тусклых и будто безжизненных прикосновений ночи. На востоке полыхали тяжкие зарницы, глухая изнурительная орудийная канонада слышалась там.
На небольшой площади, в конце улицы, серела возвышавшаяся громада пятиглавого православного храма. К южным воротам храма крадучись, со всеми возможными предосторожностями подошел человек в камуфляжной одежде; но, если б он был и во всем гражданском, его офицерская выправка все равно б его выдала. У ворот, с другой их стороны, его уже ждали: вдруг какой-то человечек беззвучно отделился от укрывавших его деревьев, подошел к воротам и стал возиться с их замком. Потом с тихим лязгом ворота отворились, но офицер заходить не стал, махнул кому-то рукой, и из проходного двора бесшумный, как летучий голландец, выехал черный фургон и направился к южным воротам. Ни единого огонька не горело ни внутри, ни снаружи фургона, и возможным наблюдателям в храме было бы непросто его увидеть.
Проехав ворота, фургон тихо застыл на краю церковного двора, из кабины его вылезли двое, тут же откуда беззвучно, как летучие мыши, нагрянули еще несколько человек и стали рядом, словно ожидая чего-то. Гальперин открыл фургон, может, не слишком осторожно, на него тотчас зашикали и замахали руками. Гальперин смутился и отошел в сторону. Иванов смотрел на Гальперина неприязненно, но и он также не находил себе места. Психологи волновались. Фургон был заполнен мешками с порошком, пахло мазутом; и на мешках лежал бородатый широколицый человек. Его вытащили и положили рядом на землю; огромный черный рубец уродовал горло мертвого бородатого человека.
Офицер посмотрел на мертвого человека с сожалением и тихо говорил своему собеседнику из храма:
— Не праведник, конечно… но…
— Жаль, — отвечал человек из храма…
— Чего жалеть-то?
— Жаль, что не праведник. Нам бы здесь праведник очень даже подошел, — объяснил тот.
— Ну и что? — возразил дотошный офицер, еще более понизив голос. — Зато он философ. Да еще с мировым именем. Его даже в Организации Объединенных Наций знали.
— Нет, философ, конечно, тоже ничего, — согласился человек из храма. — Но праведник все-таки был бы лучше.
— Не привередничай. Бери то, что есть. Где мы тебе праведника-то теперь искать должны, сам подумай?..
— Да ладно, я так. Нам все равно умирать. Но с праведником рядом было бы все-таки лучше.
— Чем лучше-то? — спросил офицер.
— Ну, не знаю. А все-таки как-то спокойнее.
— Ну и что же здесь такого? — шепотом говорил офицер. — Праведник-то умрет, да ведь и вы умрете!..
— Нет, это не объяснить. Мы-то, конечно, умрем, с этим ничего не поделаешь. Но ведь рядом и праведник умрет, — говорил человек из храма.
— Ты совсем там пропитался этим духом… — говорил офицер в едва приметном раздражении.
— Да нет же, — стал оправдываться его собеседник. — Сказки это все поповские, я знаю.
— А мы, откровенно говоря, думали, тебе уже каюк. Думали, тебя разоблачили и шлепнули.
— Да, это здесь возможно, — согласился тот. — Служба безопасности у них на высоте, да и следят все друг за другом.
— Вот я и говорю, — сказал офицер.
— Идти надо. А то меня хватиться могут, — сказал человек из храма.
— Да. Все следует сделать чисто.