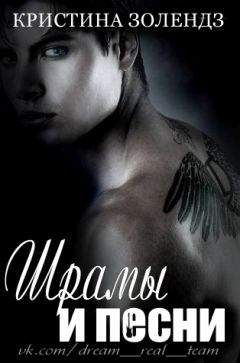Трудно решать вот так сразу, но второго шанса ему скорее всего не представится.
— Рабыня-лепидинка по имени Скованное Горе, — произнес Тальрик.
— Наслышан, — ласково ответил полковник.
— Она принадлежала полковнику Ультеру. Я хотел бы передать ее в дар лейтенанту Аагену, оказавшему мне неоценимую помощь.
— Согласен, — без запинки сказал полковник. — Еще что-нибудь?
— Мне помогала еще одна рабыня, женщина нашей расы по имени Грейя. Я хотел бы дать ей свободу.
Латвок кашлянул в кулак, словно Тальрик допустил промашку в изысканном обществе.
— Империя не освобождает своих рабов. Их поощряют, ставят на ответственные посты, делают советниками, но на волю не отпускают. Во избежание нежелательного прецедента Империя дарит ее вам, майор. Если вы захотите освободить ее как свою личную собственность, на это, полагаю, закроют глаза. Еще?
— Хочу упомянуть о хорошей работе лейтенанта те Берро.
Мушид, явно не ожидавший этого, удивился.
— Воздавать должное подчиненным — хорошая черта в офицере, — одобрительно кивнул Латвок. — Так выковываются преданные Империи люди. — Сам Латвок, судя по лицу те Берро, не обладал этим ценным качеством. — Далее?
— Это все.
— Уверены? — нахмурился Латвок. — У губернатора было много рабов — полный дворец.
— Оставляю их на попечение Империи, господин полковник. Я желал бы лишь одного — вернуться в Геллерон к прерванной мною работе. Она сейчас находится в завершающей стадии, и агенты нуждаются в моем руководстве.
Латвок взглянул на занимающего трон человека.
— Видите ли, майор… у нас есть виды на ваше будущее. Генерал Рейнер находит, что вы можете послужить образцом для офицеров Рекефа.
Тальрик вытянулся: генералы Рекефа обычно нигде не показывались в открытую, кроме как при дворе.
— Господин генерал…
— В зарубежном отделе вы работали безупречно, майор, — продолжал полковник (генерал в это время сверлил Тальрика взглядом), — но ваши таланты могут принести пользу и во внутреннем ведомстве. Империю должно охранять как от внешнего, так и от внутреннего врага.
Это было больше чем повышением: внутренний отдел, старшая и более почтенная ветвь Рекефа, подчинялся исключительно императору — его офицеры никого и ничего не боялись (не считая своих коллег, шепнула крамольная мысль).
Зато их боялись все поголовно. Ни один армейский офицер не мог быть уверен, что сослуживец не напишет донос на его неосторожные слова или раб не подслушает его пьяных бредней. Каждый военный, от рядового до генерала, чувствовал, что око Рекефа устремлено ему в спину, каждый мог исчезнуть бесследно в любой момент.
Значит, дело Ультера было задумано как испытание? Тальрика натравили на старого ментора, чтобы посмотреть, как он справится — и он сдал экзамен.
— Это большая честь, но мой план в Геллероне…
— Может быть завершен кем-то другим. Обдумайте это, майор.
Офицер внутреннего отдела подобен хирургу, безжалостно отсекающему пораженный орган ради спасения всего тела. Каждый день Тальрика станет таким же, как прошлая ночь — и можно не сомневаться, что однажды ему поручат дело Аагена или еще какого-нибудь друга былых времен.
— Я поступлю так, как мне прикажет Империя. — Следующие слова, которые он собирался произнести, могли с большой долей вероятности обеспечить ему судьбу Ультера. — Но если это только предложение, а не приказ, я предпочел бы ответить отказом. Я дорожу своей работой и боюсь, что без меня она закончится неуспешно.
Латвок и генерал обменялись долгим взглядом. Тальрик попытался разгадать его смысл, но так и не смог.
— Хорошо, майор. Вы свободны, — сказал наконец полковник, и Тальрик вышел, по-прежнему теряясь в догадках.
Еще до рассвета Минну, как солнечный луч, облетела весть о побеге Кимены и смерти Борова. Эти два события, по мнению всех горожан, были связаны напрямую.
В штаб-квартиру Хизеса потянулись связные из других подпольных ячеек — как союзники, так и противники. Они шли к Кимене, единственному человеку, способному объединить их. Ультер, тоже понимавший, что она такая одна, не отважился поднять руку на Деву города: он подпал под ее влияние точно так же, как и все миннцы.
Хизес переходил от одних к другим, пожимая руки, — Таниса видела, что всего приветливее он встречает старых врагов.
Чи думала какую-то свою думу, а Сальма, несмотря на шум и суету, все еще спал. Почти все время в плену, как сказала Чи, он провел связанным и не мог как следует отдохнуть. Представив себе, как он со скрученными за спиной руками всю ночь караулил Чи, Таниса встала и подошла к нему.
Она всегда гордилась собственной независимостью и полагалась только на свои силы. Жизнь, как выяснилось теперь, попросту не вынуждала ее полагаться на кого-то еще. Взять их отношения с Сальмой: он постоянно дразнил ее, а она злилась из-за того, что так и не сумела его охмурить. А Чи? Что уж там отрицать: приятно быть красивее и ловчее своей сестры, которую природа наделила серьезным характером и золотым сердцем.
Лишь когда у нее забрали обоих, Таниса поняла всю меру своей к ним любви. У нее словно часть души отняли вместе с ними. Глядя на спящего Сальму, она видела лицо, которое он никогда не показывал миру. Сон омолодил его лет на пять — а она-то всегда думала, что Сальма старше ее. Отведя темную прядь с его лба, Таниса мысленно пожелала, чтобы ему приснилась свобода.
Она не слышала, как подошел Тизамон, но вдруг почувствовала его у себя за спиной. Мрачен, как обычно — становится ли он другим, когда спит?
— Нам надо поговорить… если ты не против.
Таниса не понимала толком, какие у них теперь отношения. Поединок в подземных туннелях сломал стену между ними, но Тизамон все еще исследовал открывшийся ему новый мир.
Она прошла за ним в уголок, где он разостлал свои одеяла.
— Ты кое-что от меня утаиваешь, — сказал Тизамон и улыбнулся угрюмо, видя ее недоумение. — Ты всем удалась в Атриссу: и красотой, и умом, и бойцовским талантом… но и мое в тебе тоже есть.
— Ты про Наследие? Оно у меня целиком арахнидское. Я не умею летать, и шпор у меня тоже нет.
Его улыбка стала почти веселой.
— Разве Наследие проявляется только наружно? Разве твое сердце не ликует, когда ты бьешься, когда чуешь кровь, когда клинок звенит о клинок?
Эти слова обрушились на нее, как удар.
— Нет!
— Не спорь. Я видел, как ты дерешься. Стойка у тебя арахнидская, но спасает тебя Наследие моей расы — потому ты до сих пор и жива.
Она вспомнила, как стояла в доме Стенвольда над убитым ею злодеем, как дралась с осоидами и бандитами в Геллероне, как пробивала себе дорогу к Сальме и Чи. Подобрать мотив всему этому было нетрудно: самозащита, спасение друзей, уплата долгов — но ее сердце загоралось всякий раз, как она обнажала шпагу, и в жилы ей словно вливали яд. Безумие, овладевавшее ею тогда, делало ее быстрой, смелой, свирепой и помогало убивать с легкостью прожженного игрока, тасующего колоду.