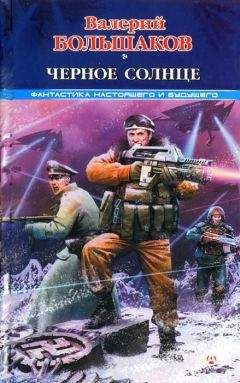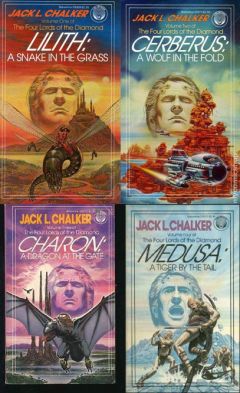— Никогда не думал, — хмыкнул Белый, — что доведётся побывать в застенках гестапо!
— Представляешь, — ухмыльнулся Гирин, — как тебе повезло?
В первом переулке налево обнаружилось большое серое здание, тяжело расплывшееся, как жирная бюргерша на пляже.
— Halt! — раздался громкий окрик, и на улицу высыпало десятка два человек в чёрной форме. Эсэсовцы. У всех у них в руках были короткоствольные автоматы с длинными магазинами. Затрещали короткие очереди, однако тонкие струйки плазмы взяли верх, скосив половину «охранного отряда».[136] Оставшиеся в живых дали дёру.
— Это Циммер соопщил о напатении, — упавшим голосом сказал фон Штромберг. — Или Шольц…
— Это уже не имеет значения, — мягко заметил Сихали.
«Чернецы» затолкали арестованных в просторный подвал и заперли за ними толстую дверь.
Тимофей успел обойти всё тёмное помещение кругом, ощупывая решётки на крошечных окошках, скрипучие нары, спотыкаясь о металлические табуреты, вмурованные в бетонный пол, когда под потолком вспыхнула лампочка.
— Ну и ладно, — с этими словами Сихали взгромоздился на топчан в углу и сказал: — Рассказывай, Гюнтер.
— А… о чём?
— Начни с сорок пятого года.
Фон Штромберг покашлял в кулачок и заговорил:
— Расумеется, я не помню моего тостослафного претка, Карла Людвига. Это не столь утифительно. Так фот… Тритцатого апреля Адольф Гитлер с Евой Браун, Мартин Борман, Генрих Мюллер, Карл Людвиг фон Штромберг собрались на аэродроме…
…Смеркалось, но вдали полыхали зарницы — русские бомбили Берлин. Сырой весенний ветерок доносил пряные запахи парящей земли, терпкий аромат клейких листочков и душную вонь кордита, меленита и прочей взрывчатой дряни.
Спортивный «Мессершмитт-108» прогревал моторы на аэродроме «Вилмерсдорф». Пассажиры улетали налегке. Они стояли и жадно смотрели на столицу рейха, гибнущую под ударами армии «недочеловеков», слушали, как тяжко бухали фугаски, и гадали, на какой улице рушатся стены домов и занимается пламя. Ева Браун осторожно взяла под руку Гитлера, сгорбившегося и постаревшего, но тот ничего даже не заметил.
— Мой фюрер, — негромко сказал Карл Людвиг, — мы не проиграли войну, мы проиграли бой.
— Да, — тускло сказал «вождь немецкого народа», — да… Наша ненависть страшна, а воля к победе неизмерима…
Из-под крыла вынырнул капитан люфтваффе Петер Баумгардт и отрапортовал о готовности к полёту. Немногочисленная и немногословная команда поспешно заняла свои места. Моторы взревели, самолёт покатил по бетонной дорожке, набирая скорость, и взлетел, ложась на курс.
Карл Людвиг широко открытыми глазами смотрел на далёкие тёмные улицы Берлина, освещаемые лишь вспышками взрывов да огнём пожаров. Принц-Альбрехтштрассе… Унтер-ден-Линден… Фридрихштрассе… Александерплац… Все эти места, любимые им, пока ещё сохраняются в памяти, но надолго ли? Там, на другом краю мира, не сотрутся ли они? Не растворятся ли в холодном дыхании льдов?
Сквозь треск помех из приёмника донёсся низковатый голос Бруно Варнке, напевавший: «О, как прекрасно было там, на Могельзее…»
Фон Штромберг крепко зажмурил глаза — слёзы подступили и жгли нестерпимо. Он врал фюреру — войну они проиграли с разгромным счётом, а надеяться на то, что выводок представителей высшей расы вдруг покинет вонючую нору в недрах Антарктиды и пройдёт победным маршем, со второй попытки покоряя нынешних победителей… Глупость. Глупость, возведённая в степень никчёмности. Или у него нет веры?..
…Перелёт не слишком утомил пассажиров — «Мессершмитт» закружился над норвежским фиордом. Выходя на второй круг, пилот заметил костры, обозначившие секретный аэродром, и посадил самолёт. К трапу тут же подкатила пара роскошных «Майбахов» — Гитлер любил эти машины за мягкость хода — и увезла пассажиров в тайную гавань, где их уже поджидала субмарина класса UF. Ранним утром первого мая транспорт заскользил под холодными водами, чтобы пересечь экватор и достичь ещё более студёных вод у Южного полярного круга…
— …Тогта в Новом Берлине прошивало чуть ли не тфатцать тысяч челофек, — вздохнул фон Штромберг, — тут топыфали уголь и руту, плафили шелесо, пот сфотами Вальхаллы сиял яркий сфет. Гитлера похоронили на местном клатпище, пятнатцать лет спустя после Фторой мирофой. Начался… как это по-русски… расруха, нет…
— Упадок? — подсказал Тимофей.
— Та, та, упаток! Фсё пришло ф страшное сапустение, а население фырошдалось.
— М-да… — сказал Сихали. — Ну и житуха вам выпала… Слушайте, Гюнтер, а как же тогда новоберлинцы пережили эти… как их… пульсации?
— Ах, это… Ну, я фсем растал специальные такие поглотители ислучения. Они маленькие софсем, умещаются в кармане. — Фон Штромберг вытащил из нагрудного кармана приборчик, похожий на портсигар и такого же размера. — Фот такой.
— Здорово, — оценил гаджет Олег Кермас.
— А фы мне не расскашете, — заговорил Гюнтер с запинкой, — что там, на ферху? Что пыло в мире? Откута фы? Мы ше тут ничего не снаем! Протим в фечных сумерках, как неприкаянные туши…
— Так чего ж вы не выбрались наружу? — громко удивился Белый. — Пробурили бы свод, и айда!
— Нарушу? — горько усмехнулся фон Штромберг.
— Натюрлих! — подтвердил Шурик.
— В тфатцатом феке такая попытка могла утаться, но токта люти поялись. «Фыйти отсюта, чтобы сесть пошисненно, как Гесс? — говорили они. — Спасипо, мы уше ситим! Так стоит ли менять место саключения?» А потом… Я ше кофорю, фсё тут пришло в упаток, началась расруха, фее наши силы ухотили на то, чтопы фышить.
— Да понятно всё, — прервал его Сихали. — Наша очередь. Шурка, повествуй.
Белый приосанился и начал долгий рассказ…
3 января, 14 часов 10 минут.
Утром принесли завтрак, продукт местного дрожжевого производства — склизкое белое месиво с комочками, пахнущее мясной подливкой, а на вкус… Интегропища была куда изысканней. Правда, фон Штромбергу позавтракать не дали — увели на предмет подробных консультаций, а вернули уже в двенадцатом часу.
— Покасывал пастору, как фключать кипноинтуктор, — рассказал Гюнтер, — как рекулирофать и настраифать…
— И как? — мрачно спросил Белый.
— А никак! — беззубо улыбнулся штандартенфюрер. — Претохранители перегорели, а бес них кипноинтуктор пойтёт враснос.
— Но Помаутуку вы об этом не сказали? — уточнил Сихали.
— А сачем? — ухмыльнулся фон Штромберг. — Пускай сам тогатается!
— Наш человек! — осклабился Тугарин-Змей и хлопнул новоберлинца по плечу. Тот присел.