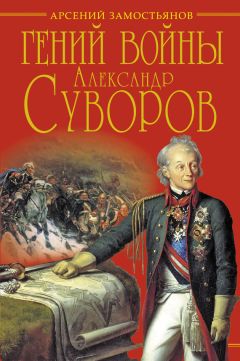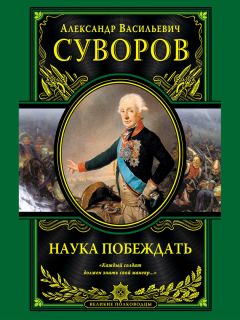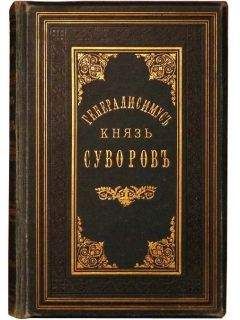Наконец мы добрались до ящика более скромных размеров. Одна из его стенок рассыпалась в ржавую труху, и через прозрачный триплекс можно было разглядеть фрагмент картины, совсем небольшой, примерно двадцать на двадцать метров. Паком клянусь, тут было на что посмотреть! Подвесив три световых шара, мы отступили назад и замерли в благоговейном молчании.
Женское лицо, молодое и светлое, озаренное чарующей улыбкой… Кажется, она склонялась над младенцем, приникшим к ее груди, и взор ее синих огромных глаз был наполнен такой любовью и такой нежностью, какие мне не приходилось видеть у живых людей. В наш век мы скуповаты на эмоции; к тому же неписаный обычай рекомендует прятать их под маской и закрываться от чужих. Но это лицо было открытым – лицо человеческого существа, прекрасной юной женщины, столь поглощенной своими чувствами, что посторонние взгляды ее не страшили и не волновали. Она как будто бы была в непроницаемой броне, хранившей ее от всех невзгод и горестей, но в то же время этот панцирь был раскрыт, распахнут, и ее улыбка говорила: придите ко мне, станьте под мою защиту, и я вас утешу и спасу. Всех, мужчин и женщин, взрослых и детей, гигантов и пигмеев…
Хинган протяжно вздохнул за моей спиной, пробормотал:
– Слишком хороша для настоящей бабы… Одалиска, что ли?..
– Какая одалиска? – возразил я. – Видишь, у нее ребенок!
– А зачем? Почему он не в инкубаторе?
– Не знаю. Наверное, в ту эпоху не было инкубаторов.
Я вспомнил рассказы Дакара о том, как рожали и растили детей в его времена, и не почувствовал прежнего отвращения. Должно быть, в этом был какой-то смысл – вероятно, больший, чем я способен представить и понять. Она так глядела на своего младенца…
Мы вернулись на закате, поели и провели ночь около машины. Я не мог уснуть, и Эри дала мне гипномаску с сон-музыкой.
* * *
В последующие дни мы осмотрели весь город, передвигаясь чаще в воздухе, но иногда совершая пешие походы. Обычно Дакар выбирал какое-то здание, хранилище книг, музей, информационный или административный центр, и мы пытались проникнуть внутрь – на скафе, если это удавалось, либо лезли в щели и трещины под развалинами. Должен заметить, что без скафа мы достигли бы немногого и, вероятно, разделили бы судьбу Дамаска; скаф являлся для нас не столько транспортным средством, сколько крепостью, где можно отсидеться, умчаться от опасности или встретить ее сокрушительным контрударом. Опасностей же в этом мире хватало, а величина населявших его существ делала наши огнеметы, пули и гранаты почти бесполезными. Птицы были только одной из проблем, не самой серьезной; в воздухе они шарахались от скафа или не могли за ним угнаться, а на земле мы ползали в щелях и недоступных им полостях под грудами мусора. От насекомых, таких, как пауки, жуки, стрекозы и мухи, мы вполне могли отбиться, а остальные не доставляли нам хлопот – во всяком случае, ни муравьи, ни пчелы с осами и шмелями нами не интересовались.
Был, однако, зверь пострашнее птиц, жуков и пауков. Дакар называл этих тварей кошками и скармливал нам истории о том, как приятно держать подобное чудище на коленях, чесать ему брюхо или за ухом и слушать его утробный рык. Не исключаю, что это правда, если ты ростом в четверть жилого ствола! Но для нас эти мохнатые гиганты с полуметровыми клыками были пострашнее крыс. Они обладали способностью подкрадываться незаметно, отлично видели в темноте, с легкостью лазали по деревьям, шатались среди руин, подстерегая птиц, и одним прыжком покрывали чуть ли не сотню метров. Нас – то есть Хингана, Эри и меня – спасало обоняние, Дакар же и Мадейра, не владевшие охотничьим искусством, были беззащитны. К счастью, кошки боялись огня – я убедился в этом, встретив рыжее смрадное чудовище величиной с наш скаф. Мне повезло – баллон огнемета был полон…
Дакар говорил о других животных, гораздо крупнее кошек, о лисах, собаках и волках, но, очевидно, в город они не заходили. Среди этих развалин могли пропитаться только птицы, кошки, ящерицы, ловившие мух, и мыши – еще один зверь, меньший, чем крыса, и не такой опасный. Мышью являлось существо, убитое мной и Хинганом во время экспедиции в подвал, и с этим серым племенем мы сталкивались часто – они прорывали ходы, вполне подходящие для человека. Иногда мы пользовались ими, чтобы пробраться внутрь зданий.
Растительность тоже могла быть смертоносной. Я говорю не о случайном падении с ветви и не о той угрозе, которую несли сухие и острые сосновые иглы или смолистые выделения стволов, – деревья во всех отношениях казались, пожалуй, гораздо приятней и дружелюбнее травы. Дакар не очень разбирался в ее видах и, думаю, не представлял, какими она угрожает опасностями. Край некоторых травинок был острым, как лезвие ножа, другие одуряюще пахли, забивая все остальные ароматы, над третьими с воинственным гулом кружились пчелы, четвертые переплетались так, что приходилось пробивать дорогу разрядниками и огнеметами.
На двенадцатый день, когда мы исследовали книгохранилище рядом с главной городской магистралью, Мадейра влез в какие-то жуткие заросли, поднявшиеся среди бесплодных обломков кирпичей. Эти на редкость живучие растения достигали стометровой высоты; из стволов, прочных, но довольно тонких, тянулись ядовито-зеленые листья, остроконечные и иззубренные, а наверху раскачивались под ветром белесые цветы. Поверхность стволов и листьев была усеяна ядовитыми шипами – они, конечно, не могли проткнуть броню, но жалили Мадейру в лоб и щеки. Он с воплем выбрался оттуда; лицо и шея стремительно распухали, и нам пришлось вкатить ему успокоительного и обезболивающего. Крапива, сказал Дакар, лучше к ней не приближаться. Потом добавил, что из молодой крапивы варят щи.
Если не считать эпизода с крапивой, нескольких схваток с мышами и кошками и поединка с черной птицей, пытавшейся склюнуть Эри, мы пребывали в спокойствии и добром здравии. Все, за исключением Мадейры – опухоль спадала медленно, и он едва мог видеть сквозь заплывшие щелочки глаз. Хинган взирал на мир Поверхности с мрачным любопытством, Эри – с опаской, а я, соединив интерес с осторожностью, по временам продолжал размышлять о тайных целях кормчего Йорка. Дакар был печален, но это не сказалось на его энтузиазме и энергии; к тому же наша первая находка, ящики и статуи в подвале, наполнила его воодушевлением. Он спустился туда со мной и долго бродил в полумраке, среди гигантских изваяний, бормоча под нос: «Афина… Афродита… Аполлон… три грации… Психея и Амур…» Перед картиной, изображавшей женщину с младенцем, он простоял минут пятнадцать – с таким лицом, будто на него свалился купол. Потом шепнул: «Мадонна Леонардо… Дьявол, сохранилась все-таки!» – и вытер глаза.