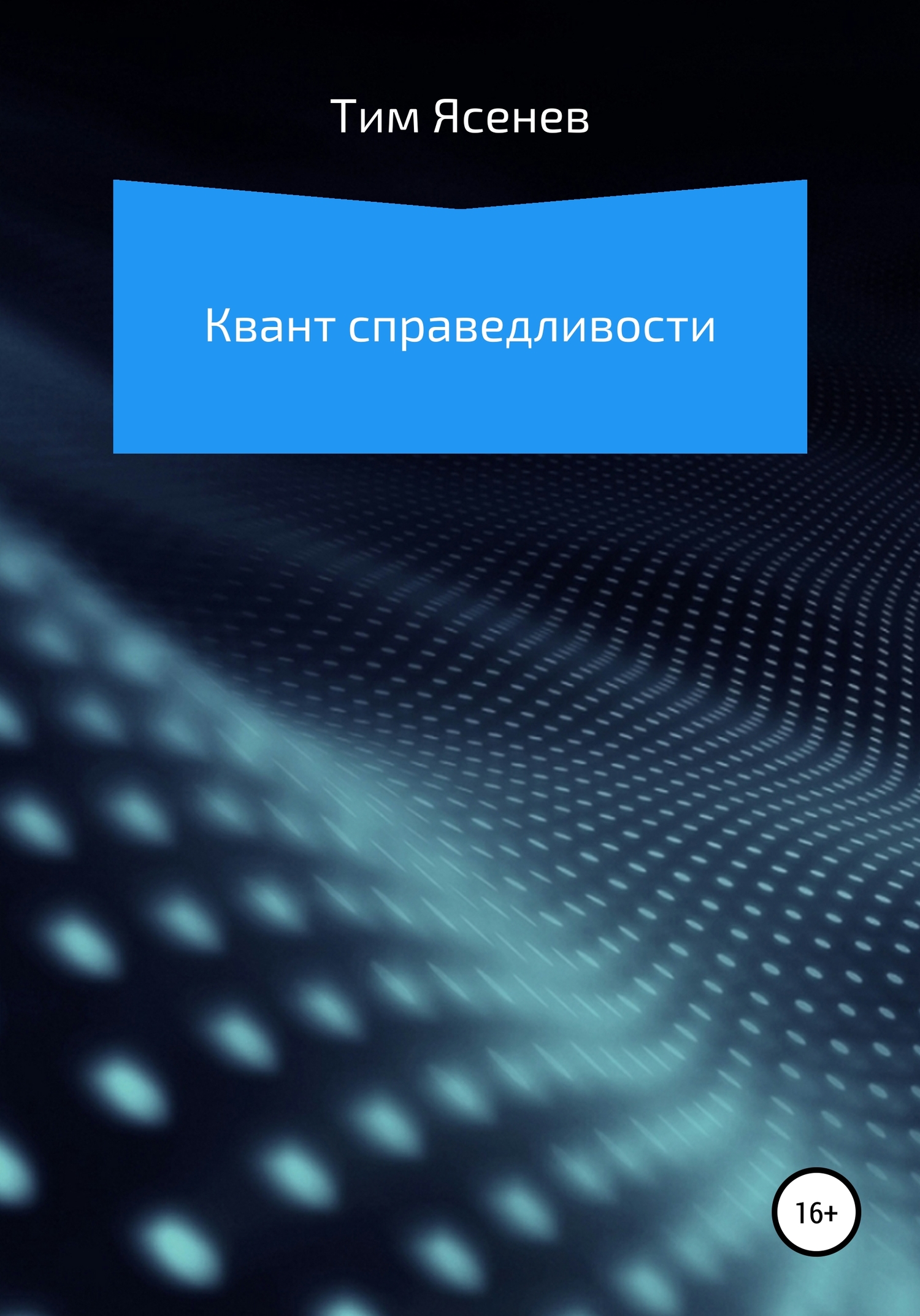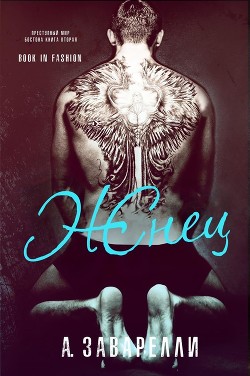крови уже будет погранично. Нужно было кровотечение, которое даст быстрый и надежный результат.
У мышц и костей довольно большой предел прочности, но вот внутренние органы обладают нежной структурой и не выдерживают повреждений. Я выбрал печень: в ней много крупных сосудов, кровь вытечет быстро, болевой шок надежно отвлечет от происходящего. Ты будешь в сознании, умрёшь быстро, но при этом тело не будет изуродовано.
Знать о тонкой биохимии, и в итоге выбрать такой незамысловатый пацанский метод – это моя дань уважения к тебе, к той, что я помню, к той, лежащей на снегу после очередной драки. Пусть это будет достойная смерть, без долгих страданий.
Я думал, стоит ли вернуть одолженное тобой тело родителям девушки. В мире нашли бы труп, завели бы уголовное дело, и, как водится, через годик закрыли: зато родители бы обрели покой и могилку дочери, над которой можно было бы проливать слезы и пропалывать травку. Да, пробитая печень и отсутствующая правая стопа указывала бы на насильственную смерть, но, судя по всему, дело бы закрыли за неустановленностью виновного лица. Или повесили бы этот эпизод на какого-нибудь маньяка: в любом случае, нам это ничем не угрожало.
Но по итогу я решил, что тело постигнет та же судьба, что и прочие отказавшиеся потенциалы. Я решил пожалеть родителей – они у нее должны быть достаточно молодыми. Пусть лучше помнят её живой и здоровой, пусть помнят, какая замечательная и целая она была. Все равно годик, два, три погорюют и перестанут: так всегда бывает.
В конце концов, у Крушины тоже нет могилы. Я помню её: живой и здоровой, какая замечательная она была.
Да, это лучший вариант, это лучше всего.
Рей
Наверняка, каждому хочется, чтобы в его жизни произошло что-то значительное. Чтобы был момент, в который ты понимал: «Я жил ради этого».
Чтобы было что-то столь ценное, за что действительно можно было отдать жизнь. Но, сколь неприятной и серой ни была бы жизнь, размениваться по пустякам как-то никому не хочется.
Пусть это «что-то» будет вечным, глубоким, длящемся намного дольше жизни любого человека. И пусть оно будет понятно любому человеку.
Убеждения, например, любовь. Или дружба.
Было бы красиво умереть, защищая кого-нибудь слабого, нуждающегося в спасении.
Хотел бы я, чтобы Камэл, уезжая, попросил меня: «Всеми силами защищай ту, что я так люблю. Любой ценой сделай так, чтобы она осталась жива».
И я бы умер, защищая её. Это было бы благородно, достойно и стильно.
Но Камэл не просил такого. Он попросил лишь приглядеть за ней.
И я просто глядел.
Но что бы я ещё сделал? Набросился бы на главу? Закрыл её своим телом? Угрожал бы Анне выбитым из рук главы ножом и требовал реанимировать девушку?
Любой из этих вариантов нелепен. Я не мог ничего сделать.
Мне выпал шанс уйти красиво. Отдать мою никчемную жизнь ради мига, показывающего, что я как человек не так уж плох. Я мог бы стать героем.
Этот шанс почти был у меня в руках, но я ничего не мог сделать.
Больше того, я стал в сотню раз хуже, чем был: ведь стал соучастником возлюбленной моего друга.
А потом стал в тысячу раз хуже, потому что ровным голосом сообщил другу о смерти его возлюбленной. Ровным, грустным тоном я сказал ему, что девушка, которую он любил до зубовного скрежета от тоски, покончила с собой единственным доступным ей способом: откусив кончик языка.
Камэл был в замешательстве. Если бы это сказал глава, он бы ни за что не поверил.
Но то, что это сказал я, его убедило. Насколько плохим человеком я могу стать?.. Есть ли куда падать ниже?
Глядя на шокированного Камэла, я вспоминал, как валялся на полу перед палатой, закрыв лицо руками и беззвучно рыдая. «Это наша с Камэлом вина, – крутится в моей голове с тех пор. – Зачем мы взяли ее с собой? Лучше бы дали ей умереть там».
Но я ни за что не дам ему разделить со мной эту мысль. Пусть хотя бы он живет спокойно.
Я не хочу, чтобы моя подлая, поганая, гнусная жизнь продолжалась. Меня снедает стыд, меня гнетет вина, и я понимаю, что уже никогда не смогу коснуться простых и чистых вещей: доверия, дружбы, любви. Я их не заслуживаю.
Но, тем не менее, продолжаю жить.
Камэл
Моя любовь закончилась, не успев начаться.
Это первое, о чем я узнал, вернувшись сюда, домой.
Оказалось, ментов вызвал не глава, а врачи, когда им принесли неизвестного без сознания. Мчсники, делающие плановый облет, нашли меня в лесу без сознания. Я назвался именем пацана, которого знал в детстве: менты не потребовали документов. Они сами за меня придумали историю о заблудившемся сталкере, ищущим заброшенный санаторий, записали в протокол, попросили меня расписаться внизу, и попрощались.
Всё время общения с ними, и последующие два дня меня мелко трусило: я все ждал, что они меня разоблачат. Что вычислят, придут, предъявят обвинение и отвезут в СИЗО. Представлял, что будет суд, и на него, может быть, придет мать. Хотя, может и не придет: ведь это она в тот раз позвонила в милицию.
А они больше не появились. Даже как-то разочаровывает.
В больнице тоже второй раз никто документы не просил. Я был относительно здоров, быстро восстанавливался – и в качестве отработки помогал с местным ремонтом. Спустя две недели, после того, как крыло было отремонтировано, меня неохотно отпустили.
Стоя на пороге больницы лицом к лицу со свободой, мне нужно было решить, что делать дальше. Едва придя в себя две недели назад я был крайне зол на главу, конечно, но теперь, когда выяснилось, что менты пришли не по его наводке, гнев подутих. Я стоял, смотрел на светлое майское небо, вдыхал полной грудью запах свежевскопанной земли и думал, чего же я хочу.
Я мог остаться тут, в мире. Устроиться чернорабочим, снять жилье, восстановить документы, попробовать связаться с матерью. У меня бы получилось жить без охот, приказов и главы. Я мог бы организовать себе ту жизнь, которой у меня не было.
Но я хотел вернуться домой. И моим домом было место, где меня принимали таким, каков я есть. К тому же, только там я мог получить новости о тебе.
И вот, я вернулся.
И узнал, что тебя больше нет.
Как же так?
Палата сверкает чистотой. В воздухе витает запах дезинфектора. Поставили новые двери, перекрасили стены и пол, прикатили другие кровати, сменили