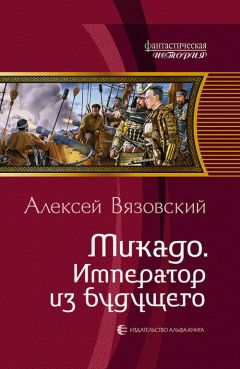нее рады, потому что это действительно чудесная партия. О том, что они с Галатеей в детстве хотели отпустить всех крепостных на волю, и даже подписали своей старой няне вольную — просто на обычном листе бумаги написали и расписались, и долго удивлялись, отчего ж она не стала свободной. Пока не спросили отца и не узнали от него, что, во-первых, вольная без заверения духовного целителя недействительна, а во-вторых, они еще несовершеннолетние, и права давать такие распоряжения не имеют.
— Мы тогда очень упрашивали его самого ее отпустить, но он сказал, что позже, когда мы подрастем, то сами отпустим ее, — Ариадна вздохнула. — А потом она умерла, пару лет назад. Мы уж к тому времени и забыли про ту свою проделку. А вот на похоронах Тея вспомнила, так мы обе расплакались.
— Грустная история, — Герман покивал. — А сейчас бы вы ее отпустили, будь она жива?
— Она сама не хотела, — Ариадна улыбнулась. — Многие не хотят, наверное, даже большинство. Даже странно, что… он этого не понимал.
— Может быть, именно это и бесило его больше всего, — осторожно вставил Герман. — Знаете, некоторые люди совершенно не переносят того, что кто-то думает иначе, чем они. Считают это преступлением и готовы за это наказывать.
— О, нет, это все совершенно не о… нем… — Ариадна вспыхнула и чуть отвела взгляд. — Он был человеком увлекающимся, живо интересующимся миром вокруг, может быть даже не замечающим от этого чувств других людей, но не… настолько холодно-жестоким, как вы говорите. Узнай вы его получше, вы бы то же о нем сказали.
— Я верю вам, и все же… — начал, было, Герман, и остановился. Ему хотелось еще сказать, что, все-таки, мы говорим о человеке, совершившем целый ряд хладнокровных убийств, и что, как к нему ни относись, и какие положительные качества ему ни приписывай, но уж не заподозрить его в жестокости трудно.
— Молчите, — сказала негромко Ариадна, выставив вперед ладонь, словно отгораживаясь от неприятной правды. — Как бы там ни было, не будем об этом.
И они больше об этом не говорили, а вместо этого Герман стал ей рассказывать о гномах — как раз то, что на днях узнал от Шервашидзе, так и прошел остаток вечера. А прощаясь, она попросила Германа заглянуть к ним как-нибудь через пару дней уже без повода.
С этого дня Герман стал бывать в имении графа чаще. Сам граф периодически уезжал то в Петербург, то в костромское имение, жена его часто болела и иной раз не выходила из комнаты, а Галатея проводила время с женихом, также наезжавшим к ним регулярно. Герман поневоле с ним познакомился, и нашел, что это молодой человек, ни о чем не думающий, кроме светских удовольствий: скачек, охоты, балов и театра, причем в последнем его, кажется, больше всего интересовала возможность являться за кулисы в гримерки хорошеньких актрис. Одним словом, это был именно такой светский шалопай, каким самому Герману еще совсем недавно хотелось выглядеть в глазах окружающих. Пожалуй, еще год назад он считал был знакомство с таким молодым человеком очень полезным и приятным, теперь же слегка его сторонился, тем более, что и Ариадне он — несмотря на видимое радушие, которое она проявляла — явно не особенно нравился.
Между тем, приближалась зима. Деревья еще кое-где стояли с остатками желтых листьев, но снег уже лежал и на деревянных мостовых Зубцова и в прочерченном аллеями графском парке.
Герман и Ариадна часто гуляли там вдвоем, разговаривая о чем-нибудь, но важный разговор о том, чтобы привлечь ее к заговору и повлиять с ее помощью на отца он все никак не заводил. Отчего-то он боялся, что это может разрушить то хрупкое доверие, что установилось между ними в последнее время, а то и вовсе привести к тому, что откажут от дома. В самом деле, это старая консервативная семья, не многовато ли им будет видеть уже второго революционера в своем доме? И хотя Герман сам себя за революционера не считал, но нетрудно было представить, как граф может на такой заход отреагировать, особенно после случившегося с Ферапонтовым.
Тем не менее, Герман то и дело старался навести разговор на графа, что он думает, сильно ли обижен резкой отставкой, сохранил ли добрые отношения с прежними подчиненными, и хотелось ли бы ему вернуться в Петербург вновь на белом коне.
По словам Ариадны выходило, что граф весьма честолюбив, что, впрочем, Герман и сам заметил. Стало быть, идея снова войти в правительство наверняка должна была быть его светозарной мечтой, и похоже на то, что он за это охотно продал бы душу черту. И Ариадна, вероятно, тоже была бы рада такому возвращению, хотя бы уж потому, что желала отцу добра и не могла видеть его расстроенным и желчным.
— Я знаю, для чего отец позвал вас, — сказала она однажды, когда они шли по отдаленной аллее графского парка, затерянной среди густых зарослей орешника. — Ему кажется, что так мне будет легче. Легче забыть…
— Не думаю, чтобы я был в состоянии, — ответил Герман. — Один человек никогда не сможет заменить другого. Кого бы мы ни встретили на нашем пути, но от ушедших всегда остается пустота.
Арадна внимательно на него посмотрела. Она была удивительно хороша в своей лисьей шубке, с раскрасневшимися лицом и непослушным локоном, выбившимся из-под шапки.
— Иногда мне… кажется иначе, — тихо проговорила она, и что-то такое сверкнуло в ее глазах, яркое, словно на секунду появившееся в разрыве туч осеннее солнце.
Они остановились возле покосившейся слегка парковой скамейки, снежинки медленно спускались с неба и устраивались на ее заячьей шапке. Герман смотрел ей в глаза. Почему-то он почувствовал легкую дрожь. Черт возьми, ему ли испытывать волнение перед девицей? Чай, не мальчик уже, а вот поди ж ты!
Герман взял ее за руки и поцеловал. Она не сопротивлялась, и снежинки медленно таяли на ее щеке, когда он снова и снова касался ее губ. В этот момент он забыл обо всем: и об интригах Корпуса и военного министерства, и о Тане, и о проваленном расследовании, и о своем неопределенном теперь будущем, и даже об Узорешителе. Здесь, в этом мире были только прикосновения ее мягких губ, пар ее горячего дыхания и тишина зимнего парка.
Она не сразу открыла свои большие глаза и долго, внимательно, посмотрела