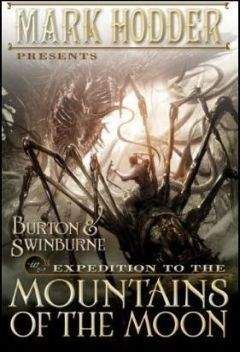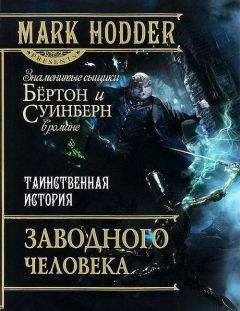— О! Браво, браво! — одобрительно воскликнул цветок.
Мысли кого-то узнай, чувства возьми себе.
И пойманный фактом Бог спину покажет тебе.
Бёртон вздрогнул, чихнул, еще какое-то время полежал, потом, качаясь, встал на ноги и ухватился за одну из ног сенокосца.
И посмотрел вверх, на цветок, который изогнулся вниз и пронзительно запищал:
— Не думал, что у тебя такие слабые нервы, Ричард. Похмелье, скорее всего. Неужели ты выпил слишком много моего бренди? Я выделяю его из себя, ну, как сок. Очень оригинальный процесс, даже если я говорю о себе!
— Да, Алджернон, ты чертовски большой оригинал, — медленно ответил Бёртон.
— Что? Что? Почему?
— Цветок?
— О! Ха-ха-ха. Не цветок, а все эти чертовы джунгли. Блестящая идея, а?
— Но... но это действительно ты?
Цветок слегка повернулся; жест, как будто человек задумчиво склонил голову на бок. Потом вновь наполнил пузыри воздухом и запищал:
Тело и ум двойники, их различит только Бог;
В плоть свалилась душа, как пьяный фермер под стог.
Целое больше чем часть и меньше чем праха щепоть.
Ясно, что тело — душа, но и душа — чем не плоть?
Дернувшись, цветок стал падать, пока не остановился в дюймах от лица Бёртона.
— Что-нибудь не так с твоей памятью, старый жеребец?
— Да. Много чего не так. Я провел пять лет, пытаясь сложить ее из частей, и все это время за мной гнались, по мне стреляли и на меня сбрасывали бомбы.
— И, наверно, ты забыл лепесток мака, который вырос из моей руки?
Бёртон вздрогнул и приложил руку ко лбу; перед его внутренним взором вспыхнуло воспоминание, принесшее ошеломляющее чувство потери.
— Бисмалла! Да, забыл! Но... подожди... я думаю... я думаю... утес Калвера!
Суинбёрн вздрогнул и прошелестел:
— Да, к сожалению.
Прищурив мокрые от слез глаза, Бёртон вгляделся в окружающий их каменный амфитеатр.
— Я знаю это место. Это...
Он посмотрел направо: одна из толстых корневидных конечностей растения пересекала площадку и углублялась в утес. В ней было темное отверстие, и он увидел, что это вход в пещеру.
Очередной кусок разрозненных воспоминаний скользнул на место.
— Это пещера, — хрипло сказал он. — Да! Я вспомнил. Грот! Ты убил графа Цеппелина!
— Да! Воткнул золотую стрелу Эрота прямо ему в глаз! Отомстил за старину Тома Бендиша! Но пруссак впрыснул мне ужасный яд, и в следующее мгновение я понял, что падаю. Мне потребовалась вечность, чтобы вырасти из той ямы на свет дня, скажу тебе. Хорошо, что Цеппелин упал рядом. Из него получилось великолепное удобрение.
Черная яма.
Алджернон Суинбёрн держится на кончиках пальцев.
Из обратной стороны ладони поэта появляется зеленый побег. Лепестки раскрываются. Красный мак.
— Маки, — прошептал Бёртон. — Теперь я понял.
— Типично для тебя, — протрубил поэт. — Я вытягиваюсь черт знает куда, чтобы указать тебе дорогу сюда, а ты даже не понял, что означают проклятые знаки!
— Извини, Алджи. Что-то случилось со мной в той пещере — в храме, о котором говорил Леттов-Форбек. Да, теперь я вспомнил. Он там, за гротом.
— Леттов-Форбек? — спросил Суинбёрн.
— Немецкий генерал, мистер Суинбёрн, — ответил Уэллс. — Вероятно, именно он пытался прожечь себе дорогу через джунгли и найти это место.
— Свинья! Я чувствовал это! Очень неприятно!
— В том храме я потерял память, — прошептал Бёртон. — Частично из-за потрясения после твоей смерти, Алджи, но там еще было много чего. А потом меня послали через время.
Суинбёрн наполнил пузыри, помахал лепестками и сказал:
— Я знаю, Ричард. Можешь представить себе мое удивление, когда — после долгих лет общения только со злоречивыми потомками Покс и Фокса — я увидел, как ты вывалился на эту поляну! Ты нес всякую чушь, как обитатель Бедлама. Я попытался заговорить с тобой, но ты с такой скоростью промчался через горлышко ущелья, как будто у тебя на пятках сидел сам дьявол. Кстати, какой сейчас год?
— Я оказался здесь в 1914-ом. А сейчас 1918-ый.
— Клянусь шляпой! Неужели?
Цветок повернулся вверх, как если бы поглядел на небо.
Один и два — не один; один и ничто — пять.
Правда и ложь — одно; вместе, не разорвать.
Потом опять повернулся к двум людям.
— Оказалось, что в эти дни трудно измерять время. С тех пор, как я... э... обзавелся корнями, я чувствую его по-другому. Не так, как я привык думать о нем. Ты можешь понять, что время наполнено парадоксами и эхом, будущего и прошедшего? Какую замечательную поэму можно из него сделать!
Когда-то жил мастодонт; птеродактилей — легион.
И мамонт был богом Земли, а ныне — бык-чемпион.
Параллельны линии все, хоть иные из них кривы;
Вы — конечно же я; но я конечно не вы.
Течет по равнине камень, бежит поток среди мхов.
Петухи существуют для кур, а куры — для петухов.
Бога, что видим мы, нет, а Бог, что не видим, есть.
Скрипка, мы знаем, обман, а обман все пронзает здесь.
Суинбёрн изогнул толстый стебель, тряхнул им и так пронзительно рассмеялся, что с верхних сучьев полетели листья.
— Мне кажется, — прошептал Уэллс, наклонившись к Бёртону, — что твой друг, это гигантское дерево, вдрызг пьян.
Однако исследователь, казалось, не слушал маленького военного корреспондента.
— Как вертикальные, так и горизонтальные свойства, — пробормотал он себе. — Кто еще говорил мне о природе времени?
Цветок издал странный звук — как будто рыгнул — и направил лепестки на Бёртона.
— Благодаря моему вновь обретенному восприятию, я мгновенно понял, что ты не в том месте — скорее времени — к которому принадлежишь; и я был не в восторге от мысли, что ты там, за горами, среди дикарей.
— На самом деле их осталось не так-то много, — вмешался Уэллс. — Да и они главным образом аскари.
Суинбёрн презрительно зашипел.
— Я не имею в виду африканцев, мистер Уэллс. Я говорю о европейцах.
— А. Тогда понятно.
— Варвары действуют на этом континенте во имя одной или другой идеологии, их социальная политика совершенно отвратительна. Я собираюсь положить этому конец. Я набираю силу и вскоре немецкая растительность — красные тростники и отравленные растения — засохнет и умрет. Я уже управляю этими ужасными штуками, которые пруссаки когда-то использовали как экипажи...
— Ищейки! — крикнул Уэллс. — Это вы! Вы управляете ищейками! Вы открыли дорогу из Таборы!