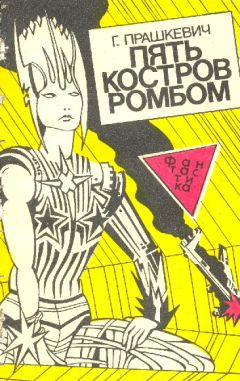Анхела улыбнулась.
Два дня назад браслет на ее руке засветился. Это значило — станция перехода запущена, энергия, необходимая для переброски, собрана, время пребывания Анхелы в Тании подошло к концу.
Удивленная вопросами Досета, Анхела сосредоточилась и мысли майора открылись ей: “Она не человек… Зачем она вмешивается в наши дела?.. Проверка на человека…”
Откуда, удивилась она, это странное желание отторгнуть меня от людей? И тут же прочла в мыслях майора: “Ларак… Небесный бык… Радиоактивный скелет… Оружие Замами…”
Они перехватили не только спрайс, поняла Анхела. В их руки попало и письмо Курта.
Бедный Курт!
Она снова почувствовала боль под сердцем, но на этот раз боль принадлежала только ей. И боль усилилась, когда Анхела представила, как страшно было Шмайзу бежать по лесной поляне, как страшно было ему видеть прыгающую перед ним собственную черную тень, отброшенную пламенем горящего самолета!..
Погружаясь в прямые, как выстрелы, мысли Досета, Анхела слово за словом восстановила письмо Шмайза. И, может быть, впервые за мною лет, проведенных ею в Тании, она испытала чувство нежного облегчения — Курт ошибся!.. Он слишком близко стоял к тому, что могло ослепить и более смелого человека!
— Если туземец не скажет, — повторил Досет, — скажете вы! — И приказал: — Дуайт, напряжение!
Дуайт замкнул контакты. Судорога свела тело журналиста, но это была не боль, это был лишь рефлекс, реакция на уже узнанное!
— Что у вас, Дуайт?
— Видимо, отошли контакты, — Дуайт наклонился к проводам.
— Живее!
— Ищите ниже, — подсказала Анхела. — У левой клеммы, под изоляцией, обрыв.
— Точно! — удивился Дуайт. — Придется сменить провод.
— Не стоит, — произнесла Анхела, поднимая с пола руану. — Вы не тронете больше Кайо. А что касается самолета, майор, эту тайну вам придется оставить для либертозо. Она не принадлежит вам.
— Я потому и облечен властью перераспределять информацию, — хмыкнул Досет, — что меня не устраивают чужие тайны… Не будете же вы утверждать, что нам трудно сменить перетершийся провод?
— Я порву его снова!
— Порвете? — поразился Досет.
— Да, — повторила Анхела. — Порву. И, если понадобится, повторю это много раз. Я не ленива.
— Но вы и не сумасшедшая! — взорвался майор.
— Это меня поддерживает.
— Тогда, может быть, начнем все сначала? — Досет едко ухмыльнулся. — Где вы все-таки родились?
— Мемфис-центр…
— Я уже слышал об этом!
— Не до конца… Мемфис-центр двадцать четвертого века!
Она разыгрывает комедию или впрямь свихнулась? — окончательно растерялся майор.
Самое трудное, сказала себе Анхела, это убеждать. Там, дома, в двадцать четвертом веке, достаточно было кивнуть, и этот кивок не мог не быть правдой. Они же, подумала она о Дуайте, Досете, Чолло, давно разочаровались в словах. Им не нужна правда, ибо чаще всего она оборачивается против них. Им нужны фокусы, им нужны трюки. И чем эти трюки эффектнее, тем легче они в них верят.
Она вспомнила гранитные скалы, нависшие над могучей северной рекой. Лиственницы пожелтели, под каждой был очерчен круг опавших осенних игл. На другом берегу высоко поднимались над скалами и деревьями длинные корпуса Института Времени. Собирая редкие ягоды костяники, Анхела нетерпеливо смотрела на реку. Она ожидала Риала.
Она ошиблась — Риал не воспользовался катером, он просто переплыл реку. Он вылез на розовый гранит совершенно мокрый, с широких плеч стекала вода, волосы прилипли ко лбу. И, прижавшись щекой к мокрому плечу Риала, Анхела разблокировала сознание. Самые тайные мысли свободно текли в мозг Риала и, отраженные, усиленные его чувством, так же свободно возвращались к ней. Они чувствовали друг друга, они были одним существом, и Анхела не сразу поняла — почему Риал смеется. А Риал, правда, смеялся. Смеялся беззвучно, скрыто. Смеялся словами, считанными о древней клинописной таблицы. И в бесконечно счастливом, добром и нежном смехе Анхела, наконец, различила слова.
“Сохрани для себя свои молитвы, — смеялся Риал. — Сохрани для себя питье и пищу, пищу твою, что достойна бога. Ведь любовь твоя буре подобна, двери, пропускающей дождь и ветер, дворцу, в котором гибнут герои!.. Где любовник, — смеялся Риал, — где герой, приятный тебе и в грядущем?.. Птичку пеструю ты полюбила; ты избила ее, ты ей крылья сломала, и живет она в чаще, и кричит; крылья) крылья!.. Полюбила коня, знаменитого в битве, и дала ему бич, удила и шпоры… И отцовский садовник был тебе мил — Ишуланну. На него подняла ты глаза и к нему потянулась: “Мой Ишуланну, исполненный силы, упьемся любовью!” Но едва ты услышала его речи, ты его превратила в крысу, ты велела ему пребывать в доме, не взойдет он на крышу, не опустится в поле… И меня полюбив, ты изменишь тоже мой образ!”
Риал оторвался от Анхелы и с неожиданной грустью повторил уже вслух:
— И меня полюбив, ты изменишь тоже мой образ…
Он ничего не добавил. Но по тому, как часть его подсознания вдруг замкнулась, Анхела поняла: Риал пришел ненадолго; опыт ждет; и Риал сейчас вновь отправится на ту сторону реки. Не поднимая глаз, она спросила: “Это будет сегодня?”
И Риал ответил: “Да”.
Не веря, Анхела подняла глаза. “Да” Риала было его прощанием. Неделя? Месяц? Год?.. Сколько бы ни было, это все равно будет разлукой.
— Что это? — спросила Анхела, притрагиваясь к полупрозрачному браслету, охватившему запястье Риала.
— Спрайс, — ответил Риал. — Таймер. Прибор, который начнет светиться, когда до возвращения останутся считанные дни.
И обнял ее.
— Сколько бы времени ни прошло, спрайс засветится. И мы опять встретимся с тобой. Здесь, на берегу.
Риал ушел вечером. И катер пропал во тьме, и небо затопило грозовой тучей, и силуэты далеких зданий засветились бесчисленными огнями, а она все сидела на берегу и ждала грозу. Она чувствовала — гроза будет страшная, не по сезону. И не ошиблась.
Скрюченные гигантские молнии хищно и страшно падали с неба. Ревел ветер. И когда Анхела уже поднялась, прямо на ее глазах три молнии, почти без интервалов, жадно ударили в высокий шпиль башни распределения энергии. Сразу погасли огни в зданиях Института, весь противоположный берег утонул во тьме. Анхела бросилась в холодную воду реки, кляня себя за то, что сидела все эти часы тут, на берегу, продлевая столь короткие минуты своего высокого, своего жгучего счастья.