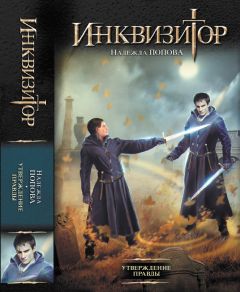Под потолком что-то хрустнуло, с паникадила упала вниз свеча, ударившись о плечо следователя, и, отскочив, покатилась по полу. Инквизитор бросил вверх короткий взгляд и отступил чуть в сторону, стряхивая с фельдрока капли еще горячего воска.
— Господа рыцари, — подытожил он требовательно, — угомоните своих дам. Дамы, успокойтесь, вы пугаете своих детей больше, чем эти твари. Ваше Преосвященство? Продолжайте.
Продолжить архиепископ сумел не сразу, и голоса хористов уже были не такими звучными и чистыми, как еще минуту назад, и собравшиеся в часовне люди не умолкли — по-прежнему кто-то что-то бормотал, кто-то всхлипывал, но возникшее смятение все-таки не переросло в панику.
Громыхание копыт и в самом деле стало отчетливо слышным, словно огромные, невероятно огромные кони неслись по тверди над головою; стекла дребезжали, трескаясь в свинцовых рамках, пол под ногами уже не вздрагивал — содрогался, голосов хора и священника стало почти не слышно, а когда сквозь грохот прорвался перекатистый глухой лай, Адельхайда ощутила, как похолодели ладони и спину словно сковало льдом.
Это не было бредом — то, что рассказывали люди в лагере подле ристалища о той ночи, это не было мороком — то, что происходило сейчас, это вершилось на самом деле: легенда темного язычества была здесь, въяве, и если покинуть стены часовни и выйти во двор, если хотя бы выглянуть в окно — то наверняка зримо… Лишь теперь Адельхайда поняла всецело, ощутила каждым нервом, что сейчас, в эти минуты, случиться может всё. Всё, что угодно. То, что зовется Дикой Охотой, может пронестись мимо или может гонять над Прагой весь остаток ночи, может (может ли?) унести с собою чьи-то души… и, возможно, души кого-то из собравшихся здесь, может статься — и ее… или — всех, кто в эту ночь пришел в часовню, чтобы молиться об избавлении, или же, напротив, тех, кого здесь нет, кто не смог или не захотел явиться в обитель Защитника людей… и все закончится вот так — в лапах неведомых тварей, где даже и смерть — понятие неабсолютное и зыбкое… Лишь теперь она взглянула на людские лица вокруг не как на смешавшиеся осколки толпы, а как на лица — лица людей, видя в каждом из этих лиц ужас — запредельный, отчаянный, даже в глазах взрослых мужчин, многие из которых бывали в настоящих битвах, а не только лишь на турнирных полях. Лишь сейчас Адельхайда ощутила, что руку ее сжимает ладонь напарницы, стискивает до боли, и неведомо, откуда в пальцах Лотты вдруг взялось столько силы; та сидела, словно каменная, но не произносила ни звука, и глаза на белом лице смотрели прямо перед собою остановившимся, точно у мертвой, взглядом.
Фон Люфтенхаймер тоже был бледен, как и все, как каждый здесь, но в его лице не было паники и того ужаса, что отражался на лицах прочих людей вокруг, лишь губы были стиснуты плотно, до белизны, и остро выступили скулы. Лица Рудольфа было не видно отсюда, и самого Императора было почти не разглядеть, и Бог знает о чем были в эти минуты мысли престолодержца…
И точно так же не сразу до рассудка дошло осознание того, что грохот, вой и лязг более не становятся громче, а затихают — медленно, едва заметно, но все более явно, удаляясь от королевского дворца прочь, уходя, становясь все глуше.
— Он уходит!.. — выкрикнул кто-то из рыцарей, неприятно тонко, словно женщина, и повторил, сорвавшись на хрип и перекрыв голоса и затихающий шум: — Он уходит!
— Господи! — надрывно простонал женский голос с невероятным, неслыханным облегчением, и после мгновенной заминки пение хора взвилось к сводам с новой силой, с какой-то дикой радостью, с надеждой, с восторгом.
— И впрямь уходит, — заметил фон Люфтенхаймер тихо и почти спокойно. — Неужто наши молитвы помогли?
Адельхайда хотела ответить, но не смогла найти нужных мыслей, чтобы облечь их в слова, и горло не смогло издать ни единого звука. Где-то на задворках сознания мысль все же жила, и разум пытался продолжить действовать, как прежде, подсказывая, что ничего еще не известно и всё — малопонятно, что Дикая Охота миновала королевский дворец, но все еще несется над Прагой и что происходит там, за стенами, над домами горожан и на темных улицах — еще не ведомо никому, и для того, чтобы сделать хоть какие-то выводы, надлежит дождаться, пока ночные гости покинут город, возвратившись туда, откуда явились. Надо выйти на улицы и осмотреть город, надо опросить людей, найти тех, кто что-то видел или слышал, убедиться, что жертв и впрямь нет, или же обнаружить таковые, и, когда все кончится, следователи Конгрегации наверняка этим и займутся…
Но сказать все это, выговорить вслух, никак не удавалось, ибо сегодня впервые с начала своей службы, впервые за свою жизнь Адельхайда поняла, что это такое страх. Настоящий страх. Он был несравним с тем, что доводилось испытывать прежде; так гнетуще, так всепоглощающе до сей поры никогда и ничто не сковывало тела и мыслей — ни явившийся когда-то для ее ареста инквизитор, грозящий костром за убийство мужа, ни одиночество в городских трущобах, полных подонков, ни даже встреча с одним из самых жутких созданий этого мира — стригом, ни почти уже наставшая смерть в их логове. Сегодня она ощутила ужас. Настоящий, глубокий, как бездна, ужас. И лишь гадать оставалось о том, что с нею было бы, как повело бы себя скованное льдом страха сознание, если бы с тем, что явилось сегодня в Прагу, она столкнулась бы лицом к лицу за пределами этих стен…
— Почти затихло, — отметил фон Люфтенхаймер, обернувшись на окно. — Видимо, уходит вовсе.
— Меня сейчас вырвет… — чуть слышно и сдавленно пробормотала Лотта, чуть ослабив хватку на ее руке, и Адельхайда, с усилием переведя дыхание, так же едва различимо выговорила:
— Все кончилось. Все хорошо.
«Все кончилось», — мысленно повторила она, осторожно высвободив руку из пальцев Лотты. Все кончилось…
Страх стал отступать так же стремительно, как и нахлынул; скованность, оцепенение ушли почти мгновенно, разом, и мысли, прежде вяло ворочавшиеся, точно полудохлые жабы, вновь ожили, перебирая все произошедшее. И снова возникло в груди то самое чувство, неизменно бросавшее во все тяжкие и прежде затмевавшее собой все страхи и опасности, — то самое нетерпение и жажда деятельности. Сейчас бы выйти наружу, осмотреть улицу, узнать, что стало или не стало с городом и людьми, что оставили после себя ночные гости… но нельзя, не получится…
Один из инквизиторов поднялся со своего места и, ни слова не говоря, зашагал к двери, кивком головы позвав следом за собою двух конгрегатских бойцов. Присутствующие проводили его взглядами так же молча, ничего не сказав и не спросив, и лишь фон Люфтенхаймер все так же негромко пробормотал что-то неразборчивое, однако переспрашивать Адельхайда не стала, оставшись сидеть, как сидела, до самого завершения вигилии. Инквизитор в часовню так и не вернулся, и, выходя, она едва не столкнулась со вторым следователем в дверях; тот отступил, давая ей и Лотте пройти, и Адельхайда успела увидеть его хмурое, сосредоточенное лицо и опасливое нетерпение во взгляде. «Я расскажу вам, что происходит», — тихо шепнул фон Люфтенхаймер, когда инквизитор стремительным шагом двинулся от часовни прочь.