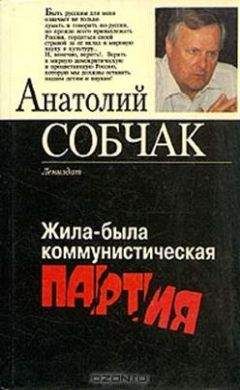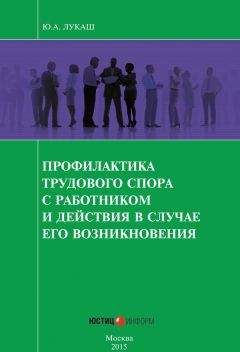– Мне интересно.
Президент взял и просмотрел протянутый главой предварительный список неподлежащих воскрешению.
– А Кирова за что?
– Это личное.
– А царскую семью?
– А вот это – в интересах государства.
– Ладно, ладно. Сталина точно не будет?
– Исключено. И в конце-то концов, Сталин умер своей смертью.
– Гм, – сказал президент, – темна вода во облацех… А что Церковь?
– Церковь на словах сейчас против. А по факту куда ей будет деваться? Сто тысяч священников помимо прочего.
– Сто тысяч? Послушай, а у нас вообще-то есть какие-нибудь достоверные цифры?
– Ну что ты как маленький, какие достоверные цифры? Воскресим и посчитаем.
– А предварительно посчитать никак нельзя? Ведь существуют расстрельные списки.
– Существуют. По некоторым годам даже сводные данные есть. В 1930-м к высшей мере наказания приговорены 20 201 человек, из них тройками ОГПУ, за участие в крестьянских волнениях, почти 19 тысяч. В 1936-м – 1118. В 1937-м и 38-м – 353 074 и 328 618 соответственно. Если предположить, сопоставить и округлить, за все годы советской власти выйдет около миллиона.
– Вот видишь.
– Не вижу. Это только ВМН. А те, кто в процессе умер? Это троцкистов можно посчитать или писателей, а крестьян когда кто считал? Возьми хоть спецпереселенцев: с 1932-го по 1940-й через спецпоселения прошло 2 миллиона 176 тысяч человек. Умерло 390 тысяч, бежало и не найдено – до 600 000. А почему я сказал «с 1932-го», если ссылать начали в тридцатом? Потому что отсутствует за тридцатый и тридцать первый точная статистика. Раз уж учёт не был налажен, то что там было налажено вообще? Полюбуйся, что мне пишут: «Можно предположить, что число бежавших и умерших доходило до 50 % от общего числа выселенных». А это, между прочим, миллион человек за два года.
– …
– А смертность в ГУЛАГе? А голод? Как голод считать? Пожалуйста: голод 1921–22 гг. Советская статистика даёт миллион погибших, самые радикальные современные историки – до восьми миллионов. Голод 1932–33: суммарно по СССР шесть миллионов. Из них Поволжье – один миллион человек, Казахстан – до двух миллионов, Украина —
– Стоп-стоп-стоп! Давай-ка в существующих границах.
– Как угодно. Усвой одно: ты просишь цифр, а тебе дают и будут давать только расхождения в цифрах. Это не злой умысел. Такова природа всех подсчётов. Чем больше считаешь, тем сильнее запутываешься.
– Не злой умысел, как же. Почему со мной никто не хочет по-человечески? Считают, как хотят, а я получаю по вопросу все бумажки, кроме какой-нибудь окончательной. Сотни, тысячи и до фига. И всем подпиши… Сколько это примерно в миллионах?
– В миллионах примерно не меньше трёх, не больше десяти.
– К нам таджиков больше приезжает.
– Вот и вопрос с таджиками наконец закроем.
– …
– …
– А почему мы не берём погибших на войне?
– Потому что тех цифр не осилим точно.
– А если только Гражданскую?
– 7–12 млн. Плюс вероятность, что эта война немедленно возобновится.
– Я, вообще говоря, сомневаюсь, что троцкисты были таким уж генофондом.
– …
– И вот ещё что… Воскрешайте трудоспособное население. Ну и детей, конечно. Дополнительных пенсионеров бюджет просто не потянет.
– Да те-то, наверное, и не слышали, что бывают пенсии.
– А теперь по сторонам посмотрят и услышат. Не надо.
– Боишься, что возьмут судьбу в руки?
– Я про это смешную пословицу знаю.
– Я её тоже знаю.
– А Фёдоров не знает?
– Фёдоров философ. Его, если не хочет, знать не заставишь.
– То есть он знает, но игнорирует?
– Игнорировать – это когда знаешь, но делаешь вид, что не знаешь. Это простому человеку приходится игнорировать: тебе, мне… А философы плевать хотели на всё, что не входит в их картину мира.
– Но чтобы на что-то плюнуть, нужно знать, куда плюёшь.
– Ну да… Но это чтобы плюнуть и попасть. Они плюют так, в пространство. В котором нет ничего, ими не предусмотренного.
– Тогда и плевка нет?
– Плевок как раз единственное, что есть. Ты подписал?
– Некромантия какая-то, – сказал президент, опасливо разглядывая красную папку. – Не могу я. Давай пошлём запрос в Академию наук.
– А то мы не знаем, что Академия наук ответит.
Президент РФ не был трусом. Он не был даже тем лукавым и слабым властителем, каким любили его рисовать политические оппоненты.
– Может, всё-таки шарлатан? – спросил президент с надеждой.
– Он не шарлатан, – сказал глава президентской администрации сурово. – К сожалению. Ты вот это, про Китай, внимательно читал? Давай, подписывай.
И на докладе «Философия общего дела» появилась виза «к исполнению».
Где-то через полгода, уже осенью, Саша Энгельгардт, доцент Санкт-Петербургского полигуманитарного университета, поехал в город Филькин на междисциплинарную конференцию «Смерть здравого смысла», послушать и доложить о заколдованных герменевтических кругах, по которым мучительно бегут друг за другом имплицитный читатель и авторская интенция.
Филькин был маленький город, зато на холмах. Как Рим.
Там были улицы с каменными домами, улицы с деревянными домами. И центральная площадь – со всем, что положено, собором и памятником Ленину. Лестницы и лесенки. Парк. Улицы карабкались и петляли по холмам, а между холмами петляла речка – робкий и мутный приток притока Волги. Над почерневшими и кривыми деревянными заборами вздымались прекрасные старые яблони, над яблонями – ободранные стены полуразрушенных церквей, их чёрные купола, над куполами – многоцветное небо. Куда деться уездному городу из-под копыт истории? И чьи копыта не вязли в этих суглинках? Саша смотрел на неспешных прохожих в среднерусской одежде типа «и в мир, и в сортир», смотрел по сторонам на всё замученное и родное – и чувствовал, как его отпускает. Спасибо осенней гари в воздухе, осеннему счастью сознавать, что всё закончилось; сил уже нет, но они уже не нужны. Всё закончилось, прошло; наконец-то можно опустить руки, не стыдно умереть. Упасть вместе с листьями. Не удивительно, что наши лучшие писатели любили осень. И, подумав про лучших писателей, доцент Энгельгардт поджал губы.
Каким он был человеком? Он жил (и подозревал, что так и умрёт) в кругу передовых интеллигентных людей и их представлений о благоустроенном обществе: мраморная говядина, евроремонт, культурка по ТВ и вежливый полицейский на улице. Когда эти люди и представления требовали, он осуждал либо выступал в поддержку, не сознавая, что и те, кого он осуждает, и те, кого поддерживает, держиморды и демократы, давно слиплись для него в один неприятный ком. Он делал, что положено: писал докторскую, купил машину. В глубине души Саша не понимал, зачем ему машина вообще, но все вокруг по умолчанию считали этот предмет важной жизненной целью. Как купить; что покупать; тонкости эксплуатации; энергичное обсуждение дорог и всего, что на дорогах, – теперь, по крайней мере, он мог поддержать разговор в преподавательском буфете. В этой машине, уже по собственной инициативе, Саша слушал радиостанцию, на которой немалое внимание уделялось новостям рынков, биржевой хронике, акциям, корпорациям и финэкспертизе. Он жалостливо полюбил прогнозы экспертов и привык к загадочному словосочетанию «высокотехнологичный наздак». (Пленял не идущий к делу отголосок наждака, пиджака и школьных дней вопля «херак! херак!». И так жее вышло с рекламой каких-то фильтров: «Внешне вода может быть мягкой, а вы знаете, какая она на самом деле?», – та звучала как стихи, бессмысленные и властные. Саша порою гадал, что означает для воды быть мягкой «внешне» – на ощупь, наверное? – но быстро отступался.) Главное, здесь не было рубрики «разговор с психологом». На остальных радиостанциях сидело по психологу (энергичные тётки и всёпонимающие парни), каждого из которых хотелось убить. Точнее так: убивать, садистски изощрённо и долго. Энергичные тётки! всёпонимающие парни! Их задушевные интонации усиливались, когда речь заходила о сексуальных отклонениях, и начисто пропадали, едва на арене появлялись депрессии. Депрессиям (диким зверям), в отличие от отклонений (милых зверушек), психологи не оставляли шанса: душить их, рубить, травить медикаментозно. Потому что (по ряду причин Саша это понимал, и не один он был такой) фетишизация белых носочков во всяком случае способствует продажам трикотажа, а усталость и тоска от жизни каким-либо продажам, кроме разве что продаж алкоголя и наркотиков, наносит урон… так что пусть покупают антидепрессанты и воскрешают в себе потребность покупать всё остальное – носочки так носочки. Бизнес самих антидепрессантов тоже, кстати сказать, не последний. Может, и попервее наркотиков. Ах, тошно, тошно.