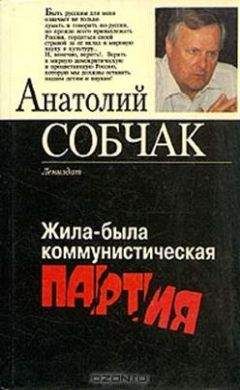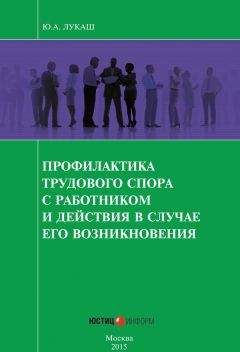– Зачем звали-то? В рожу плюнуть?
Широко поставленные прозрачные глаза Ромуальда фон Плау смотрели со спокойствием слепого, так смотрели, будто ничего не видели. Получая паспорт гражданина РФ, он вернул себе настоящие имя и фамилию – показывал ХXI веку, что возвращается в исходную точку, в отвратительный мир неравенства и эксплуатации. Кошкин называл его «Роман Александрович» и «майор», а за глаза, даром что сам был дворянин и сын присяжного поверенного, – «фон барон». (Кошкин о себе мог бы написать роман «В людях»: ранняя смерть отца, бедственное положение семьи, безрадостные скитания по семьям родственников. В анкетах он наверное прилгнул: какая-то мифическая старушка-прачка его воспитывала, рабочая семья, – но ведь цена чужого хлеба быстро узнаётся, даже если ты окончил гимназию и университет.)
Фон Плау, до того как порвать со своими мелкопоместными баронами, учился и путешествовал по Европе, а потом пошёл в военное училище. Анкета перечисляет фронт, Советы солдатских депутатов, подпольную революционную работу в Вильно и бои с польскими легионерами; ранение при защите штаб-квартиры рабочих представителей, тюремное заключение. В 1920-м, когда ему исполнилось двадцать пять, его обменяли по мирному договору с Польшей. Ранение в действительности было попыткой самоубийства.
Полковник Татев рассеянно смотрел в окно: старое дерево с мокрой пегой листвой, за деревом ещё один деревянный дом, за домом – купол и крест церковки. Крест позолотили, а на купол пошла аккуратная зелёная краска.
– Салюты теперь сопровождаются колокольным звоном, – сказал Кошкин, проследив его взгляд. – Оно и веселее.
– Мы работали, – сказал фон Плау в пространство. – Мы взяли тёмный, неграмотный, опутанный религиозными предрассудками, озлобленный народ и сделали из него тех, кто выиграет войну и построит социализм. Мы отдали всё. Мы верили в будущее.
– Теперь ты видишь, во что верил.
– Я вижу горстку эксплуататоров, и одураченных ими, и цепных овчарок, которым говорят, что они защищают родину – а не дворцы жулья и собственные будки.
– Майор, остынь.
– Пусть говорит, у нас демократия. – Полковник Татев развёл руками. – Это когда тебя посылают на три буквы, а ты поворачиваешься и идёшь куда хочешь.
– Клоун.
– Не нужно принимать выходки Романа Александровича всерьёз. Это всё временно. Мы ещё не привыкли.
– …Я думал, вы скорее будете вести борьбу.
– Какую борьбу?
– Революционную.
Кошкин и фон Плау не скрывая переглянулись.
– Здесь действительно кое-кто ведёт… или пытается вести… революционную борьбу. Но мы – Роман Александрович, я… мы готовы… – Нужное слово Кошкин искал так долго, что фон Плау без сострадания улыбнулся. – …готовы сотрудничать. К сожалению, вы этого пока не хотите… не знаю, это страх или безразличие. После революции многие царские кадры пошли служить советской власти, ты ведь знаешь об этом?
– Знаю.
– Конечно, ты должен знать. Хотя бы о Джунковском слышал. Большевиков они презирали. Они работали с нами, но не на нас. Не ради того, во что мы верили, а ради страны. Тогда я их не понимал. Теперь понял.
– И что для этого потребовалось?
– Всего лишь оказаться на их месте.
Жалобы на засорённость рядов ВЧК раздавались с момента создания ВЧК. Прислушиваясь к ним, можно увериться, что одну половину чекистов составляли убийцы-фанатики, психопаты, садисты и сексуальные маньяки, а вторую – бывшие царские жандармы, полицейские и черносотенцы. Что б хотя бы черносотенцам не жить спокойно? Пошли служить, потому что привыкли служить. Потому что ничего другого не умели, потому что кто-то всё равно должен, – и чего вы в конце концов от них хотите, если они жандармы и полицейские, организации ЦК в изгнании? Любую гражданскую войну несёт по поверхности обыденной жизни, могучего мутного потока рутины и случая: приходят в городок белые – проводят мобилизацию, приходят красные – проводят мобилизацию… по тем же спискам, при царе составленным… и знаменитое «брат на брата» сплошь и рядом получается само собой, без какой-либо братоубийственной вражды в исходной точке.
– Ну так что, не побрезгуешь?
– Работаем в тех деньгах, какие есть. Только вот что… Я сейчас не при исполнении. И вы оба должны понимать, что так оно и останется. Никаких официальных контактов. Никакой надежды на восстановление.
– Хорошо.
– И я не хочу числиться в агентуре, – сказал фон Плау. – Ничего не подпишу.
– Да ладно, какая у меня агентура.
Полковник посмотрел на Зоркого. Тот сидел в углу на табуретке, не вмешивался в разговор. Убитый. Весь в своём, которое теперь неизвестно чьё.
Интересно узнать, может ли такой человечек оказаться достаточно хитрым, чтобы намеренно изобразить эту потерянность, эту глухоту, – сделать вид, одним словом, такого человечка. Опыт подсказывает, что сходу, сдуру ответ не дать; опыт говорит: подождём, отложим.
– Почему-то мне кажется, что вы морочите мне голову.
– Почему-то кажется, что и ты нам тоже.
– Тогда сработаемся… Кстати, о Джунковском я слышал, что не таким уж он был профессионалом.
Через двадцать минут полковник Татев, рассеянно напевая: «Мы будем вместе, я знаю, таких, как я, не бывает», вышел на дорогу, помахал удостоверением перед приглянувшейся машиной, сел в неё и дал водителю адрес Климовой.
Мы уходим, за нами закрывают дверь, и тогда-то всё и начинается. Только социопат, всё богатство мира носящий с собою, вполне свободен от любопытства и желания знать, какие разговоры, тайны и замыслы поднимаются у него за спиной волшебным чертополохом: сунься и пропадёшь, сунься – и утонешь. Саша искал Брукса, а наткнулся на Посошкова, которого, положа руку на совесть, вот прямо сейчас предпочёл бы не видеть. Он и без того изводился, гадая, что наговорили Ивану Кирилловичу его товарищи, и хотел изводиться поодаль, не глядя в глаза, потому что мало ли что в этих глазах подметишь: стыд, например, или – уже получше – негодование. И зачем он, никого не предупредив, пошёл к мэру? Решил сделать доброе дело. Отлично сделал.
– Александр Михайлович!
– Иван Кириллович… Как вы?
– Я должен принести вам извинения.
– Нет, нет… За что?
– За приём такой неловкий. Мне сказали, вы испугались?
– Я сам виноват, что без приглашения.
У профессора Посошкова был усталый и огорчённый вид. Саша почувствовал себя таким виноватым, что начал рассказывать об успехах демократии на постсоветском пространстве. В Германию опять можно поехать – куда там, во Фрайбург? Если позовут и дадут денег на билет.
– Люди озлоблены. Они не понимают. Не могут простить.