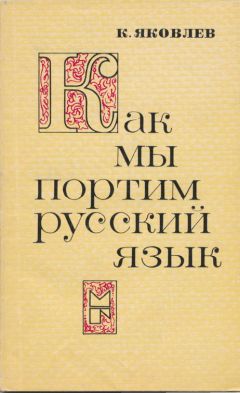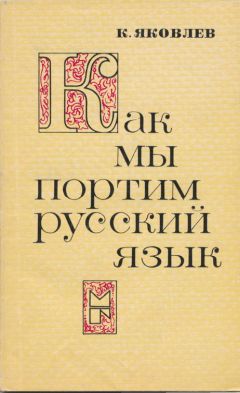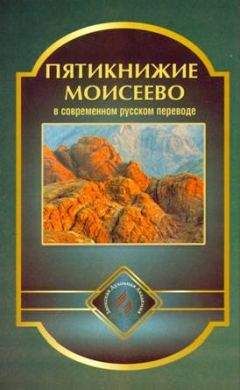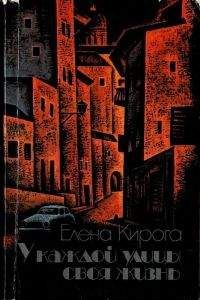повторять я. – Человеческий мозг полон изъянов, со временем он становится похож на решето. Без фотографий многое из того, что мы хотим помнить, было бы забыто.
Пролетая через всю страну, я всхлипывала, переживая заново жизнь своего старшего ребенка.
ГРЕГГ ФОРТ
В чем-то Эбигейл была права.
Часто, очень часто я жалел о том, что у меня нет образов, которые помогли бы мне вспомнить. Я не могу представить точные черты лица Хейли в шесть месяцев, не могу восстановить ее костюм на День всех святых, когда ей было пять лет. Я даже не помню, какого точно оттенка синего цвета было платье, в котором она ходила на школьный выпускной вечер.
И, если учесть то, что произошло позже, ее фотографии для меня недоступны.
Я утешаю себя вот какой мыслью: как фотография или видео может запечатлеть родственную близость, непередаваемую субъективную перспективу и настроение моих глаз, эмоциональное содержание каждого мгновения, когда я чувствовал невозможную красоту души своего ребенка? Я не хочу, чтобы цифровые изображения, эрзац-отражения электронного взгляда, многократно отфильтрованные искусственным интеллектом, портили то, что я помню о нашей дочери.
Когда я думаю о Хейли, мне на ум приходит цепочка разрозненных воспоминаний.
Малышка, впервые обхватившая своими пальчиками мой большой палец; крохотная девочка, ползущая на четвереньках по полу, раздвигая, подобно ледоколу, кубики с буквами алфавита; четырехлетняя девчушка, протягивающая мне пакет с одноразовыми носовыми платками, – я дрожу от озноба, а она кладет свою холодную ладошку на мой горячий лоб.
Восьмилетняя Хейли дергает за веревочку, запуская сделанную из бутылки с газировкой ракету. Пенистая вода обливает нас с ног до головы, а она со смехом кричит: «Я стану первой балериной, которая станцует на Марсе!»
Девятилетняя Хейли заявляет мне, что больше не хочет, чтобы я читал ей перед сном. Мое сердце стискивает боль неминуемого взросления ребенка, а она смягчает свой удар, добавляя: «Может быть, когда-нибудь я тебе почитаю».
Десятилетняя Хейли упорно стоит на своем, поддержанная сестрой, и строго отчитывает нас с Эбигейл: «Я не верну вам ваши телефоны до тех пор, пока вы не дадите письменное обязательство впредь не пользоваться ими во время обеда!»
Пятнадцатилетняя Хейли резко жмет на тормоза, вызывая самый громкий визг покрышек, какой я когда-либо слышал; я сижу рядом, до боли стиснув побелевшие кулаки. «Пап, у тебя такой вид, как у меня на том аттракционе». Голос тщательно модулированный, небрежный. Она выставила передо мной руку, словно могла меня защитить, точно так же, как делал я с ней сотни раз.
И так далее, и так далее – выжимки из шести тысяч восьмисот семидесяти четырех дней, которые мы прожили вместе, подобно сломанным светящимся ракушкам, оставшимся на берегу, после того как схлынула волна повседневной жизни.
Когда мы прилетели в Калифорнию, Эбигейл попросила меня взглянуть на тело – я не смог.
Наверное, кто-то может сказать, что нет никакой разницы между тем, как мой отец пытался стереть шрамы своих ошибок в фотолаборатории, и моим отказом взглянуть на тело ребенка, которого я не смог защитить. У меня в голове крутились тысячи «я мог бы»… Я мог бы настоять на том, чтобы Хейли поступила в колледж рядом с домом; я мог бы отправить ее на курсы выживания в чрезвычайной ситуации; я мог бы настоять на том, чтобы она постоянно носила бронежилет. Выросло целое поколение тех, кто знает, как себя вести в том случае, если убийца-одиночка откроет стрельбу, так почему же я не сделал больше? Наверное, я никогда не понимал своего отца, не сочувствовал его ущербному, трусливому сердцу, пропитанному насквозь чувством вины, – до гибели Хейли.
Но в конечном счете я не захотел смотреть на ее тело, потому что стремился сохранить единственное, что осталось от нее: свои воспоминания.
Если бы я увидел ее тело, зазубренный кратер выходного пулевого отверстия, застывшие лавовые потоки спекшейся крови, обугленные края разорванной одежды, этот образ неминуемо затмил бы все то, что было прежде, одним мощным взрывом сжег бы дотла воспоминания о моей дочери, моем ребенке, оставив после себя только ненависть и отчаяние. Нет, безжизненное тело не имело ничего общего с Хейли, с ребенком, которого я хотел помнить. Я не мог допустить, чтобы одно мгновение стерло все существование Хейли, как не мог допустить, чтобы какие-то транзисторы и микросхемы управляли моей памятью.
Поэтому Эбигейл подошла одна, подняла простыню и долго смотрела на изуродованное, безжизненное тело Хейли. И еще она сделала фотографии. «Это я тоже хочу запомнить, – пробормотала она. – Нельзя отворачиваться от своего ребенка в минуты его страданий, после того как ты не смог ему помочь».
ЭБИГЕЙЛ ФОРТ
Они подошли ко мне, когда мы еще были в Калифорнии.
Я онемела от боли. У меня в мыслях крутились вопросы, заданные тысячами уст. Почему этому человеку позволили собрать такой арсенал? Почему никто не остановил его, несмотря на все тревожные признаки? Что я могла сделать – должна была сделать – по-другому, чтобы спасти своего ребенка?
– Кое-что сделать вы можете, – сказали они мне. – Давайте будем работать вместе над тем, чтобы увековечить память Хейли и добиться реальных перемен.
Многие называли меня наивной или еще хуже. На что я надеялась? После того как я десятилетиями видела, как подобный сценарий завершается только мыслями и молитвами, с какой стати я вдруг решила, что сейчас все будет иначе? Воистину, это было самое настоящее безумие.
Возможно, кого-то цинизм делает неуязвимым и сильным. Но далеко не все такие. Во мраке горя человек готов ухватиться за самый слабый лучик надежды.
– Политика изжила свое, – говорили мне. – Кажется, чаша терпения переполнена: после смерти маленьких детей, после смерти молодоженов, после смерти матерей, пытавшихся защитить своих младенцев, – власти должны были бы что-то сделать. Однако этого так и не происходит. Логика и сила убеждения перестали быть действенными, поэтому мы должны разбудить чувства. Давайте сосредоточимся на истории Хейли, вместо того чтобы позволить средствам массовой информации направлять низменное любопытство широкой публики на личность убийцы.
Я робко пыталась возразить, что такое уже делали. Едва ли можно считать прием «поставить в центр жертву» нестандартным политическим ходом. Вы хотите сделать так, чтобы моя дочь перестала быть просто цифрой, статистикой, еще одной безликой фамилией в списке погибших. Вы полагаете, что, когда люди столкнутся с реальными, из плоти и крови, последствиями своей бездеятельности и нерешительности, что-то изменится. Однако в прошлом это не работало, и сейчас тоже не будет работать.
– Это не так, – настаивали они. – Мы предлагаем принципиально новый алгоритм.
Они попытались объяснить мне свой замысел, но я ничего не поняла в деталях машинного обучения, сверхточных нейронных сетях и моделях обратной связи в биологических объектах. Первоначально этот алгоритм возник в индустрии развлечений, где он сначала