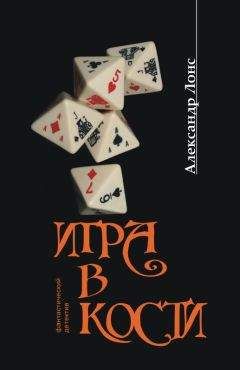— А потом? — нетерпеливо спросил я.
— Потом начались летние каникулы, меня отправили в лагерь на три смены, а в самом начале сентября я подслушала разговор мамы с тем чужим мужиком, узнала о её делах, впала в жутчайшую депрессию, чем-то даже лечилась, и мама, по совету врача, записала меня в ту самую Школу искусств.
— А он? Этот лаборант?
— Уволился в конце мая, и следующий учебный год начался уже без него…
— После зимних каникул, вы уехали из нашего города, — сказал я, разглядывая окружающие пейзажи.
Окружающий мир, тем временем, жил своей летней жизнью, и только нашей неторопливо идущей паре все это было безразлично. Дымя выхлопными трубами, то и дело мимо проносились машины, по тротуарам куда-то шли неугомонные группки туристических женщин.
— Да… — не глядя на меня, абсолютно спокойно произнесла Лена, и продолжила дозволенные речи. — Да, мы неожиданно переехали сюда, в Питер, и больше изобразительным художеством я не занималась. Сейчас всё это уже бесконечно далеко, так что, наверно, я могу смотреть на всё трезво и издалека. Может быть, даже сверху. Я стала ходить чуть ли не в самую старую петербургскую школу, что на Социалистической. Училась там два с половиной года…
Старые дома слепо смотрели на нас серыми тусклыми окнами. Обилие машин, плохой бензин… Прохожие чаще всего меня с Леной даже не замечали. Каждый из нас думал о своем, насколько в его жизни все нелепо и странно.
— В первый учебный день последнего школьного года, — продолжала Лена, — нас выперли дежурить с утра пораньше. Каждому из нас надлежало нацепить бейджик. А поскольку у нас в школе почти всем на всех было наплевать, я написала на своей карточке: «hello, assholes!» и так проходила весь день. Малявки спрашивали, что там такое написано, а я отвечала: «привет, школьники!» Так начался мой последний школьный учебный год. Вот тогда-то я для себя и решила, что выберу профессию матери. Уже в ту пору я терпеть не могла людей и ненавидела то, что они творят. С собой, с природой, с миром вообще. Поэтому такое предпочтение казалось тогда вполне естественным для меня.
— Не страшно было? — спросил я с искренним интересом в голосе.
— Нет, тогда совсем не страшно, — криво усмехнулась она, глядя куда-то в сторону. — Я давно видела, что люди, в большинстве своем, ведут себя или как идиоты, или как самые отвратительные безмозглые твари. Спасение оказалось одно — чтение и книги. В последнем классе школы литературе нас учила замечательная тётка — Раиса Васильевна, или просто — Васильна, как мы ее уважительно называли за глаза. Рассказывала она удивительно интересно и увлекательно, очень её в нашей школе уважали. Но было у нее скверное, для нас, обыкновение — в конце почти каждого урока задавать небольшую самостоятельную письменную работу, оценка за которую шла прямо в журнал. А, дабы ученики не сильно забывали русский язык, ибо в последнем классе он уже не преподавался, оценку Васильна ставила среднюю — знание предмета плюс знание русского, поделенное пополам. Причем значение округлялось в нижнюю сторону, так что всякие там четверки с минусами никому не светили. В общем, схлопотать трояк за хорошее знание литературы, но неверно расставленные запятые можно было вполне. Мне это обычно не грозило — я писала на пятерки, да и сочинения мои Васильна хвалила. Но один урок запомнился на всю жизнь. Как-то раз, литераторша, прежде чем раздать нам проверенные работы, вдруг спросила: «Ну, дорогие мои, а знает ли кто-нибудь, в каком слове из семи букв, один из вас умудрился сделать четыре ошибки?» Класс удрученно молчал, все тихо переглядывались и думали — кто этот несчастный? Кому пара за правописание? Что за слово такое? А Васильна подошла к доске и написала: «ОнОпеЗД», а потом повернулась к нам, посмотрела мне прямо в глаза, и весело так сказала: «двойка тебе, Лена!» Слово, действительно, оказалось мудреное — «анапест» — название одного из стихотворных размеров. Ну, вот. А параллельно, я ходила во всякие спортивные секции и обучалась у матери ее непростому ремеслу. Сначала мама долго отказывалась, пыталась меня уговорить, убедить, даже наказывать пробовала. Но я настояла. Я тогда временно рассталась с этой своей болезнью, и первоначальное нервное потрясение ушло. Потом закончила школу и поступила в универ. А когда пропала мама, я тебе об этом уже рассказывала, ты должен помнить, я осталась одна с кошкой, и моя болезнь снова обострилась. Невероятные всплески моего настроения учащались, но я надеялась, что они не станут мешать мне жить. Ошиблась, стали. Я пробовала разное. Пыталась подружиться с соседями, крутить любовь с однокашниками, еще всякое, но толку от этого не вышло. Вот именно тогда я и начала верить во всяких нежитей. Даже не то чтобы верить, я просто знала, что они у меня существуют. Привидения? Полтергейсты? Или как их там называют? Не суть важно. Я знала, что у меня в доме только одна позитивная комната — моя спальня. В ней всегда тепло, уютно, а если надо — еще и лампа со свечами, всякие мои личные фенечки. Во всех прочих помещениях бывали посторонние люди — начиная от соседей, заканчивая университетскими знакомыми. В спальню дозволялось входить не всем. Так вот, именно в этой спаленке (кстати — только в ней единственной сделали ремонт и вообще всё по фен-шую) я спать не могла. Точнее, могла, но с великим трудом. Мне снились жуткие кошмары, постоянно творились разные странные вещи вроде того, что я всю ночь просыпаюсь и пытаюсь уснуть снова, и как только засыпаю — тут же опять просыпаюсь от ощущения чьего-то взгляда на себе. Когда я спала с кем-нибудь, страхи уходили, и я даже не придавала значения всей этой фигне. Но чаще я оставалась одна, не считая моей кошки. При ней, кстати, тоже ничего страшного не случалось, но она не любила мою комнату, и на ночь уходила в прихожую. Я знала, что переплачиваю за свет, потому что по вечерам мне становилось страшно, слышались какие-то звуки и шаркающие шаги. Я включала свет повсюду, просто повсюду, даже в туалете. Постепенно нарастало ощущение, что я скоро совсем свихнусь, и за мной приедут санитары в соответствующих халатах. Вот тогда-то и возник у меня какой-то внутренний кризис, что сохранялся еще долго…
— И как ты с этим справилась? — пробурчал я, ощущая в ее словах тьму и холод бездонного колодца.
— Погоди, сейчас, объясню как. Относительно ужасов. Однажды мне вдруг ярко и отчётливо приснилось, как умирает мама. Тогда я встала, и пошла курить на кухню, а потом легла досыпать на диване в гостиной. Утром, собираясь в универ, я в ворохе белья обнаружила здоровенного паука. У меня в доме даже тараканов не водилось, не то, что пауков! И не походил он на тех мелких паучков, что из вентиляции забегают. Он выглядел реально очень-очень большим. Поскольку убивать их нельзя, я выкинула его в окно. Вот и всё. А потом я просто сидела и чуть ли не рыдала, стремно было до ужаса. Даже на первую пару опоздала, чего не допускала никогда. Именно тогда я и поверила окончательно, что моей мамы больше нет. Я многое бы списала на свою больную фантазию, но кошка! Помнишь её? Она регулярно садилась перед моей (бывшей маминой) дверью, смотрела куда-то вверх и громко жалобно мяукала. Она никогда прежде так себя не вела — орала только в тех случаях, если оголодала или сильно хотела кота. А тогда, если я закрывала от нее дверь комнаты, она рвалась, билась, прыгала царапала ручку, пытаясь открыть, и так до тех пор, пока не ослабевала. Иногда я, в ответ на ее вопли, запускала в нее тапком, но она снова садилась туда же и снова принималась вопить. Именно в ту пору я решила пойти в церковь…