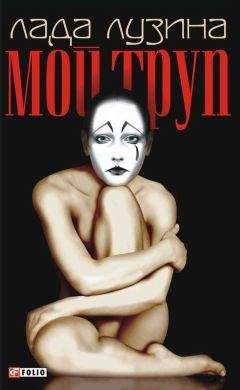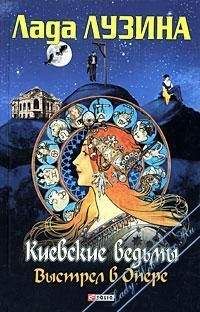Вся моя квартира, стены, пол, обивка дивана, письменный стол и безобидный чайник на кухне были покрыты моим одиночеством, липким и отвратительным, как разлитое масло. Каждая вещь в доме была безнадежно отравлена им. Каждая книга сочилась ядом летальной любви. Все мои любимые книжки вдруг оказались написанными только про это. Все песни были про нас с Костей! И каждая строчка, включая детский стишок «зайку бросила хозяйка, под дождем остался зайка», - ставила мне диагноз.
И каждый вечер, как только стрелка часов дергалась, соскакивая с цифры двенадцать, я захлебывалась одиночеством, отплевывалась одиночеством, барахталась в нем, била руками, цеплялась за кого попало, но все равно шла ко дну… Мне было страшно и холодно. Холодно и страшно. Холодная, страшная, похожая на Панночку Гоголя, любовь гонялась за мной по квартире, и я металась из угла в угол, и закрывала лицо руками, и пряталась под одеяло - она всегда находила меня. И я бежала, бежала, бежала к Косте, ловила машину, звонила им в дверь, и он гладил меня по голове, и называл «Любовь моя». И я думала: «Господи, мы же любим друг друга. Не важно как, лишь бы быть вместе!» А после он шел спать с Сашиком и… мне хотелось то ли кричать, то ли вскрыть себе вены оттого, что на свете есть он, и он такой, какой есть.
«Гамартия! Фатальная ошибка[12] - главное отличие греческой трагедии, - говорила наш Сфинкс. - Герой трагедии ошибается - он без вины виноватый».
Я была так же невиновна, как царь Эдип, по ошибке женившийся на кровной маме. Но ни мне, ни ему не было от этого легче. Эдип выколол себе булавкой глаза. Летом после второго курса я впервые попыталась покончить с собой. Второй раз я предприняла попытку два года спустя, когда, окончив художественный, Костя уехал работать в Питер, Саша отправился за ним, бросив театр. Я тоже могла бросить все… меня просто никто не звал.
Больше года мы с Костей писали друг другу безразмерные письма и висели на телефоне часами (все деньги, которые я получала за публикации, шли на оплату междугородних счетов). Часто наш разговор оканчивался только тогда, когда он засыпал, я понимала это по безответной тишине и вешала трубку. Мы говорили, как прежде, взахлеб - о его новой работе и моей курсовой «Смерть в творчестве Жана Ануя». Мы обсуждали его декорации и костюмы (он слал эскизы в каждом письме) и все так же восторженно спорили о долге, любви и подозрительной нелюбви Шекспира к желтому цвету…
А когда Костя вернулся в Киев, меня попустило. Настолько, чтоб сказать с самоироничным смешком:
«Ты хоть представляешь, как сильно я любила тебя?»
«Любила? - он посмотрел на меня. Это был знакомый мне взгляд человека, преданного другом. - Ты любила меня как мужчину? Значит, все, что между нами было, объяснялось только твоей манюрской влюбленностью? Я думал, у нас серьезные отношения… Я интересен тебе как личность!»
Он обиделся - обиделся так крупномасштабно и сильно, что мне некуда было втиснуть ответную обиду. Он объяснял наши отношения высокодуховным родством. Он считал меня своим главным, лучшим, избранным другом. Он был из нашего мира, где все спят со всеми и звенит бойкий лозунг «Отсутствие секса - портит дружбу». Он не замечал мою взрезающую вены любовь!
Но он был моим другом и остался им.
* * *
Голубой друг тридцатилетней неудачницы - так затасканно и избито, использовано в сотне американских комедий. Я ненавидела растиражированный фарсовый образ голубого, впечатавшийся в неокрепшие умы: существо с манерными руками, разговаривающее противным фальцетом, ехидно подкалывающее свою подружку: «Ну что ты сидишь, пойди, трахнись с ним».
Знали б они Костю! Главного блюстителя моей морали и нравственности. Костю, относившегося к обязанностям лучшего друга с трагической серьезностью. Он был совсем не комедийным героем…
Именно он убедил меня не прописывать мужа (бабушка была не против), и именно он, когда три года назад бабушка Люся умерла, взял на себя организацию ее похорон. Он один всерьез интересовался моей карьерой, читал черновики статей, уговаривал меня поступать в аспирантуру и снова писать о театре. И он же раскритиковал меня в пух и прах, когда я попыталась сделать это:
«Разве так тебя учили писать?»
Он был прав. Пять лет меня учили не писать так! «Только плохие критики опускают режиссера, не подкрепляя шпильки примерами, - склонял нас И. В. - Сказал - докажи. Иначе это не критика, а базарная ругня».
«Янис, пойми, - защищалась я, - театральных журналов давно нет. Мне нужно как-то опубликовать это…»
«Не нужно. Лучше не делать вообще, чем делать говно!»
Он решил за меня.
Он часто решал за других и чаще других беспокоился о благополучии нашего «общества неврастеников». Не удивительно, что он предлагал выломать дверь. Не удивительно, что он не находил себе места, сел ли Андрей в самолет? Не удивительно, что он обозвал Арину… Хоть все нерушимые принципы Кости Гречко причудливо переплетались с законами нашего блядского мира, он навсегда остался воспитанным мальчиком из хорошей семьи. Он не осудил бы Арину, если б Доброхотов решил бросить Олю и сообщил ей об этом, встав на колени, отрыдав положенных пятнадцать минут, а затем трахнул Арину у нее на глазах.
Но Арина не должна была покушаться на Олино добро лишь на основании опьяненья последнего. Сашик не должен был соглашаться на позорный сюжет лишь потому, что мечтает засветиться. Андрей должен был улететь, а я…
«Ты должна вызвать милицию», - услышала я Костин голос.
«Янис, ты что? - дернулась я. - Я - первая подозреваемая. Все свидетельствует против меня. Но ты ж веришь, что я не убивала его?»
«Ты говоришь мне правду?»
«Конечно».
«Конечно, я верю».
«А ты можешь сказать ментам, что позже ты вспомнил, как я ушла в спальню одна?»
«Как я могу сказать это, если это неправда? Как я буду выглядеть? Зачем я тогда стучал в дверь?»
«Ты просто забыл…»
«Не заставляй меня делать из себя идиота! Если Андрея убил кто-то из нас, ты не должна прятаться - ты должна вызвать милицию. Ты не должна убирать квартиру - ты замоешь улики. Если Андрей мертв, мы не вправе им лгать - мы должны рассказать все, как есть. Если ты не убивала его, милиция докажет это».
«Ян, это же не советский фильм!…»
«…твоего отца» - я не успела договорить. Моя сцена оборвалась.
До того, как Костя успел завершить:
«Скажи, Любовь моя, разве я не прав?»
До того, как я успела ответить:
«Прав… Ты прав…»
* * *
Я никогда не понимала персонажей трагедий!