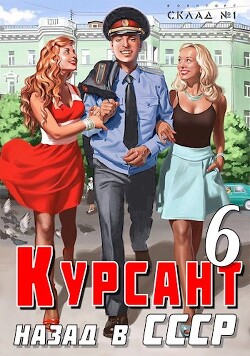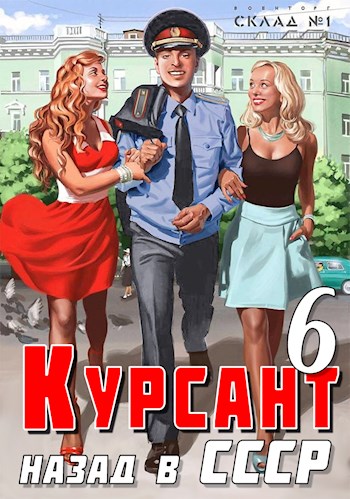затылок. — Лицо у него ничем не примечательное, обычный прямоугольник по форме, нос ни широкий, ни узкий, стандартный такой. Лоб шире обычного, будто мозг выпирает. Губы тонкие, лживые. Самое интересное — это глаза. Колючие и холодные. Цвета непонятного, как у рыбы. Волосы русые, средней длины, прическа — как у всех мужиков, с челкой. Так… Что еще? Ага! Морщин в меру, на вид лет сорок с гаком. Седины, бороды и усов нет. Щеки еще чуть больше обычного, но не обвислые, как у бульдога, а моложавые, как у Аленушки из народных сказок. Пока все… Если что, спрашивай.
Карл уже что-то накидывал на лист широкими отточенными взмахами руки:
— Про брови не сказал!
— Хм-м… Брови не помню, хоть убей… Наверное, неприметные бровки, раз в памяти не отложились. Не как у нашего, — я многозначительно ткнул пальцем вверх. — Ну как? Получается? Можно посмотреть?
— Нет! — неожиданно резко вскрикнул творец, чуть передвинув мольберт, чтобы не дай бог мы не увидели его шедевр раньше времени. — В процесс нельзя вмешиваться. Я не смогу так работать. Расскажи про подбородок.
— Подбородок нескучный, будто из кирпича вытесан. Не сказать, что массивный, но и немаленький. Средний, но формой силу хозяина выдает.
— А рост, вес примерно какой у него?
— Какая разница? — я недоуменно развел руками. — Ты же морду рисуешь, а не всего человека.
— Разница есть. Все элементы внешности взаимосвязаны. Я должен иметь полное представление о натурщике.
— Натурщик… Рост средний или чуть выше. Телосложение без пуза и жирка, как у спортсмена или сталевара, что в горячем цеху за смену весь жирок вытапливает. Ну что, готово?
— И теперь не все готово. Как говорится, стрижка только начата…
Мы просидели еще минут двадцать. Наконец, Карл откинул рукой челку и с удовлетворенным видом развернул к нам мольберт. Мы с Погодиным раскрыли рты. Первым пришел в себя Федя:
— Дядя Карл, это что за Чапаев?
— Да это не Чапаев! — подхватил я. — Это Бармалей какой-то! Маркс твою Энгельс! Откуда усы-то у него появились?! А?
— Ну ты так описал, — оправдывался художник, — что я подумал, образ без них будет неполон. Усы — это символ зрелости и мужественности.
— Ядрен-батон! К черту символы! Ты не плакат рисуешь, а портрет преступника. И почему у него морда на дуболома из армии Урфина Джюса похожа? Я же человека просил нарисовать! Не похож на шубника! Перерисовывай.
Я даже потянулся, чтобы сорвать поганый листок с мольберта. Карл Генрихович, конечно, не дал, удержал его ладонью.
— Не могу я со слов творить. Искусство на мелочные придирки разменивать!
— Придирки? Да с таким портретом мы кого искать должны? Нет такого человека в природе, и это уж точно не наш мошенник!
— Простите, но я не могу работать, когда на меня давят. Что мог, то сделал.
— Ладно, дядя Карл, — снисходительно проговорил Федя. — И на этом спасибо. Ты уж извини моего друга за резкость, просто он на тебя надежды возлагал. Я сразу знал, что ничего не выйдет. Не можешь ты портреты рисовать со слов. Не привык ты по указке работать. Всегда такой был.
— Вот и я про то же, — распушил хвост художник. — Я птица вольная, высокого творческого полета. Не могу под дулом у мильтонов творить.
— А это мысль, — на моем лице появилась гаденькая улыбка, я повернулся к Феде. — Если и вправду на него ствол навести?
Художник хотел что-то сказать, но задохнулся от возмущения, лишь хлопал глазами.
— Да ладно, шучу я. Спасибо, Карл Генрихович, что не отказал. Но ты на досуге про Веру повспоминай все-таки. Может, вспомнишь еще что… А мы тогда к тебе больше приходить не будем. Обещаю…
* * *
На следующий день прямо с утра в кримотдел приперли тот самый ящик с инструментами, который в пылу погони бросил лжесантехник, на дактилоскопическую экспертизу. Погодину пришлось накануне рассказать о своей самостоятельной засаде коллегам, чтобы оформить изъятие ящика, как положено. Правда, к моменту изъятия больше половины инструментов ушлые граждане успели скоммуниздить.
Экспертизу Паутов отписал Вите, как наиболее опытному дактилоскописту. Он благополучно закинул материалы в долгий ящик. Я это дело просек и убедил его приступить к экспертизе вне очереди, пообещав взамен, если что, прикрыть его на малозначительных выездах.
Тот больше вопросов не задавал, и к одиннадцати мы разложили содержимое ящика на стол под софитами. Пакля, гаечные ключи, изолента, резинки и прочая хрень, все испачкано в в субстанции, напоминающей мазут.
Витя шипел и морщился, когда обмахивал объекты специальной широкой колонковой кистью, периодически погружая ее в баночку с порошкообразной сажей. Но вместо того, чтобы показать нам папиллярные узоры, сажа налипала на жирный мазут. Естественно, следов рук мы нигде не обнаружили. Черт! Так и знал… Но попробовать стоило.
— Все? — спросил меня Витя. — Доволен? Я же сразу сказал, что ничего здесь не будет. Объекты исследования, как с помойки.
— Спасибо, Витек. Я сам упакую, иди…
Я вертел в руках каждый предмет, словно пытался его разговорить. Но ничего примечательного так и не обнаружил. Уже начал складывать их обратно в извозюканный сажей ящик, как мое внимание привлек мазок затертой краски на его дне. Под слоем грязи что-то явно было написано. Я поскреб широкой твердой отверткой и вычистил надпись. ЖЭК № 17. Дальше шрифт мельчал и совсем стерся. Очевидно, это был инвентарный номер. Есть зацепка! Быстренько поскидав инструменты в ящик, я отпросился у Паутова на очередное занятие по физо и поскакал к кабинету Погодина. “С пинка” распахнул дверь:
— Собирайся, Федя! Надо в ЖЭК сгонять!
Погодин от неожиданности подскочил на стуле и спрятал маленькое зеркальце со стола.
— Опять прыщи давишь? — улыбнулся я. — Девку лучше себе заведи!
— Какую девку? То есть, в какой ЖЭК? Зачем?
— Ящичек с инструментами нам на пальчики принесли, только следов там нет и быть не могло.
— Это почему?
— Потому что, Федя, только в кино следы на спусковом крючке пистолетов остаются. А в жизни поверхность в идеале должна быть чистая и гладкая, как стеклышко. Тогда только потожир узоры оставляет. А на грязи и на мазуте — дохлый номер. Но там на ящике, вот смотри, номер ЖЭКа есть. Инструменты эти рабочие, унитазы и раковины ими по-настоящему чинили.
— Ты думаешь, наш