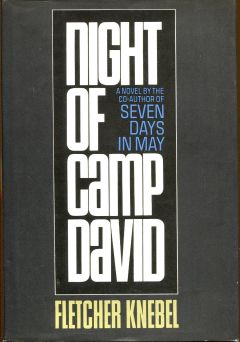Джим почувствовал себя одиноким, опустошённым. Над страной нависла угроза величайшего правительственного кризиса, а эти люди в своём циничном недоверии хотят превратить всё в шутку!
— У меня, — вмешался О’Мэлли, — связаны руки, и вы все это прекрасно знаете. Из-за истории с ареной я не могу выступить один, без вашей поддержки. Я действительно сомневаюсь в нормальности президента, но только в таком деле одних сомнений недостаточно. Тут необходимы доказательства. Я предлагаю, чтобы мы с Джимом отошли в сторонку, а вы трое проголосовали бы между собой, стоит продолжать это расследование или же лучше покончить с ним тут же, на месте.
— Я за то, чтобы продолжать, — высказался Каваног.
— А я чтобы прекратить, — сказал Одлум.
— Я тоже, — присоединился к нему Галлион.
О’Мэлли стукнул рукой по ручке кресла, словно держал в ней председательский молоток:
— Совещание окончено, джентльмены!
Все дружески пожали Маквейгу руку, а Одлум задержал её в своей и тихо сказал:
— Очень сожалею, Джим, что мне пришлось задать жару и вам и этой Рите, но мне просто необходимо было знать, честную ли вы ведёте игру.
Джима охватило отчаяние, он чувствовал, что проиграл не только эту битву, но и всю войну. Он нисколько не сомневался, что в результате совещания ещё несколько человек прониклись убеждением, что им движут либо соображения политической мести, либо расстроенные умственные способности. Когда все стали расходиться, Каваног жестом задержал его:
— На вашем месте, Джим, я стал бы действовать только в одном направлении. Допустим на минуту, что ваша теория правильна. Если так, то у президента, возможно, и раньше наблюдались симптомы этой болезни. В конце концов, именно поэтому вы и стали копаться в материалах его ранних лет. Почему бы вам не попросить какого-нибудь приятеля в Пентагоне, чтобы он просмотрел для вас военный послужной список Холленбаха? Ведь он воевал в Корее, кажется, в пехоте. Может, там ничего и нет, а может, и есть! Но если вы узнаете, что даже в напряжённых военных условиях его разум оставался нормальным, вам всё-таки от этого полегчает.
Джим поблагодарил его и сказал, что непременно воспользуется его советом. Однако в душе он сомневался, стоит ли наводить справки. Он чувствовал себя разбитым, выжатым как лимон. Господи, хоть бы сегодня удалось ему наконец уснуть!
Обратная поездка с Ритой в автомобиле началась с мрачного молчания. Небо в тёмных тучах нависло над ними свинцовым пологом. Их «седан» прокладывал себе путь по извилистой гравиевой дорожке к большому шоссе, и слышался только шум мотора да скрип гравия под колёсами. Когда они выбрались на шоссе и понеслись по нему со скоростью семьдесят пять миль в час, в деревне Люсби было темно, и только в одном фермерском домишке горел запоздалый огонёк.
Первой заговорила Рита:
— Никогда за всю мою жизнь никому не удавалось вывалять меня в такой грязи!
— Мне очень жаль, Рита. Это всё, что я могу сказать. Чего бы я не отдал, чтобы избавить тебя от этой сцены!
— Нет, до чего мерзкий этот Фред Одлум! Чего и ожидать от человека, который перещупал всех девчонок у себя в Капитолии!
— Постарайся обо всём забыть, Рита, с этим покончено. — Он смертельно устал, и ему ни о чём не хотелось говорить.
— Может, ты всё-таки объяснишь, ради чего мне пришлось выдержать этот допрос, как какой-нибудь девке, подобранной полицейскими на улице?
— Не могу, Рита. Пойми, мы все поклялись хранить это в тайне. И если ты можешь сделать мне последнее одолжение, то очень тебя прошу, Рита, никому об этом не рассказывай.
— Не беспокойся. Неужели ты думаешь, что я стану кому-нибудь рассказывать об этой отвратительной, позорной истории?
Она отвернулась к окну, и Джим услышал, что она снова плачет. Это был прерывистый, сухой плач. Но вскоре она вытерла глаза и принялась молча курить. Когда они проезжали мимо базы военно-воздушных сил, она неожиданно спросила:
— Скажи мне, Джим, ты состоишь в заговоре и хочешь погубить президента? Да?
— Нет, Рита. Я не хочу погубить его. Я пытаюсь ему помочь. Но рассказать тебе об этом я не могу. Во всяком случае, не теперь.
Она вынула пачку сигарет и, убедившись, что она пуста, нервно смяла её и вытащила из сумочки свежую. Потом торопливо закурила. Когда она снова заговорила, тон её был злым, обвиняющим:
— Ну, конечно, всё так и есть. Он предложил тебе поставить своё имя на избирательном бюллетене, и не прошло трёх недель, как вышвырнул тебя вон, и вот теперь ты решил с ним посчитаться. Ты участвуешь в заговоре и хочешь дискредитировать президента. Я уже решила, завтра же утром я обо всём доложу Доновану!
— Ты сама не понимаешь, какую глупость сделаешь! Поднимется чёрт знает какой скандал, и всё будет зря. Клянусь тебе, я не состою ни в каком заговоре!
Она продолжала молча курить.
— Прошу тебя, Рита, ну неужели ты мне не веришь?
Ока обратила к нему угольно-чёрные стёкла очков:
— Поверить тебе, Маквейг? После всего, что было? Да ни за что на свете!
Джим понял, что спорить с нею бесполезно. Ему стало вдруг страшно грустно, и жаль себя, Риту, свою страну, и он усомнился, стоит ли вообще продолжать эту борьбу. Может, давно уже надо было от неё отказаться? А может, у него действительно были галлюцинации, и он сам всё выдумал? Они молча неслись по безлюдным улицам Вашингтона, и, когда подкатили к дому Риты, часы показывали у неё два часа ночи. Рита поспешно вылезла из автомобиля, яростно хлопнула дверцей и, не попрощавшись, взбежала по ступенькам.
ГЛАВА 13. БУХТА ЗЕЛЕНОЙ ЧЕРЕПАХИ
На следующий день Маквейг появился в своей приёмной за несколько минут до восьми. В здании Сената никого не было, один только мальчишка лифтёр дремал в вестибюле над раскрытым учебником права. Шаги Джима отдавались гулким эхом по мраморному коридору, как будто проходил батальон солдат.
Ни один служащий его приёмной не приступал к работе раньше восьми тридцати, и Джим сидел теперь в своём кабинете один, окружённый портретами с автографами. На столе перед ним лежали аккуратные стопки писем, ожидавших ответа.
Он чувствовал себя совершенно разбитым. В голове гудело, белки глаз налились кровью, кожа зудела так, словно вот-вот начнёт сползать с него клочьями, — ощущение, которое обычно появлялось у него после долгой бессонницы.
Этой ночью он спал лишь урывками, и, как ни устраивался поудобнее, к каким способам заснуть ни прибегал, сознание не переставало работать. Когда перед самым рассветом он очнулся от тревожного забытья, ноги и руки его ломило от нестерпимой боли.