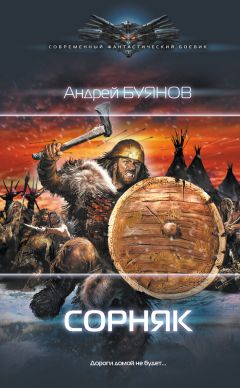Она медленно отвела взгляд, больше не в силах что-либо сказать ему, понимая всю пустоту своих старательно приводимых доводов, и принялась утешать себя, думая, как ей казалось, о самом главном, — о его обещании. Однако в голове ее теперь уже вертелся еще один вопрос, который Элионте не могла не задать, и она спросила.
— Но ты ведь не пойдешь к "Нему", также как Моремик?
— Пойду!
Ее глаза снова наполнились слезами.
— Я пойду к нему, Элионте, я должен спросить у него кое-что важное и получить ответ!
— Но ты же знаешь, что это огромная дерзость, и такой поступок навредит тебе! Ты не можешь так поступить! Обещай мне…
Он резко к ней повернулся, не дав договорить.
— Все, что смог, я тебе пообещал, Элионте и больше ты не должна злоупотреблять моим к тебе отношением! Я пойду к нему, а уж в какой степени этот поступок навредит мне, не имеет значения!
— Очень даже имеет, Птолетит, и я…
— Для меня не имеет! — Он поднялся на ноги.
— Пошли, я теперь должен побыть один, да и тебе, думаю, следует отдохнуть.
… Послеполуденное солнце щедро одаривало своим ясным светом обширную равнину и возвышающиеся на ней невысокие пологие зеленеющие холмы. Едва угадывающаяся извилистая тропинка, по которой шагал Птолетит, направляла его стопы к подножью высокой горы, венчавшей собою всю зримую часть этого равнинного пространства, на которой, среди благоухающей цветущей растительности располагалось недоступная ангельскому глазу божья обитель. Златокудрый ангел решительно шагал вперед, высоко подняв свою, еще совсем недавно понурую голову, и мысленно готовился к встрече со Всемогущим.
С чего начать? — думал Птолетит. Он перебирал вопросы, пытаясь выделить среди них самый значимый, который сумел бы дать понять Всевышнему, в каком предельном состоянии находится его непокорный слуга. Хотя, какая разница, с чего начать? Ведь Бог уже наверняка знает, чем полны его мысли, и с той самой минуты, как только он, выбравшись из райского святилища, сделал свой первый шаг по направлению к его обители, ожидает его появления. Высокая гора, которая, казалось, находится совсем близко, приближалась к нему на удивление медленно, и Птолетит, терзаясь нетерпением, все чаще и чаще ускорял шаги. И вот когда, наконец, подножье Великой возвышенности предстало перед его взором, он, ощутив волнение, в нерешительности остановился. Стоит ли ему подниматься наверх? Или мысленно призвать к себе Бога, уповая на его милость и снисхождение к несчастному ангелу, и скромно ждать его появления, присев на один из пяти больших камней, хаотично разметавшихся у самого подножья горы? Однако долго над этим раздумывать Птолетиту не пришлось, ибо через мгновение после этих мыслей, пространство возле него осветилось прозрачным мерцающим светом, и благодатная длань Господа силой своего влияния, не сравнимая ни с чем по притяжению и блаженству, окутывающему всю его суть, плавно снизошла на златокудрого ангела.
— Господи! — только и успел вымолвить он, прежде чем перед
его возбужденным взором предстал Создатель с таинственной, едва уловимой улыбкой на устах. Фалды его белых одежд, отороченных нежным золотым плетением кружев, слегка раскачивались под игривым дуновением ветерка, когда он, медленно приблизившись к Птолетиту, положил свою горячую руку на его плечо. И этот жест, который сам по себе уже служил неким знаком проявления одобрения к его поступку, ободрил растерявшегося ангела.
— Господи, прости меня за столь дерзкий поступок и соизволь выслушать! — тут же воскликнул Птолетит, и его слова эхом прокатились по безмолвной равнине.
Светлый лик Господа озарился приветливой улыбкой.
— Я готов выслушать тебя, ангел мой, оттого я и здесь. — Просто сказал он, и, взяв Птолетита за руку, подвел к ближайшему плоскому камню.
— Давай-ка присядем и побеседуем, друг мой! Ведь я давно жду твоего появления.
— Правда? — Удивился Птолетит.
— Да, с тех самых пор, как тебя одного среди многих стали глубоко волновать некоторые вопросы.
Птолетит с облегчением вздохнул, и в голове его невольно пронеслась мысль сожаления о том, что он не посмел раньше придти к Господу.
Они разместились на камне немного поодаль друг от друга, после чего Птолетит выжидательно взглянул на Всевышнего. Создатель, в свою очередь, вопросительно взглянул на неугомонного ангела, хоть и наперед знал то, на чем тот попытается сейчас сосредоточить все его внимание.
— Я слушаю тебя, Птолетит, — сказал он, и в знак внимания склонил перед ангелом свою мудрую голову.
Птолетит, вмиг почувствовав облегчение от такого непредвиденно легкого стечения обстоятельств, ощутил, как мысли в его голове тут же упорядочились, выстроившись в логический ряд, а язык, развязавшись сам собой абсолютно без всяких на то усилий, произнес вопрос.
— Скажи, Господи, отчего человечество, созданное тобой в совокупе своем так безжалостно и жестоко по отношению не только к окружающему его Миру, но и друг к другу?
— О! Это сложный вопрос, на который нет однозначного, готового ответа. В этом следует разобраться Птолетит, и если ты хочешь постичь всю глубину последующего ответа, наберись терпения и приготовься к долгой беседе.
Неистовый ангел, вмиг став покорным, приложил руки к груди и с благоговением взглянул на Всевышнего.
— Я готов к долгому разговору, Господь мой, ибо это не дает мне покоя!
— Дело в том, что создав человечество, я не имел цели создать зло, которым оно оперирует! Человек сотворил зло сам, и в этом, в большей степени, выражается свобода, дарованная ему мной!
— Как это? — удивился Птолетит.
— Очень просто! Зло, — это своего рода предательство, совершаемое в условиях свободы.
— Предательство к кому?
— Предательство к своему создателю, то есть ко мне!
Птолетит вновь изумленно посмотрел на Бога. А тот, улыбнувшись, продолжил свои рассуждения.
— Дело в том, что при создании человечества я даровал ему определенную несвободу, однако, признав такой акт несправедливым, я вынужден был подарить ему и равнозначную свободу!
— И в чем же проявляются эти две стороны медали? — поинтересовался Птолетит.
— Несвобода, — или нравственный закон, прежде всего, обусловлена моим присутствием в человеке, и к ней можно отнести такие категории как любовь, совесть и нравственность, — одним словом, все то, чем люди способны выделяться из остального живого Мира! Свобода же — истинна! И она заключается именно в самом человеке, а если сказать точнее, — в человеческой самонадеянности! Ибо самонадеянность есть ни что иное, как слепота человека, отрекшегося от Божьего закона и не ведающего, что он творит!