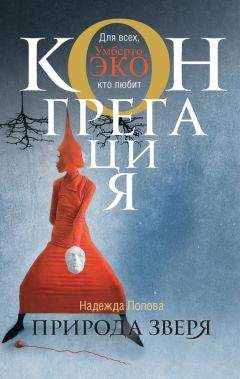– Четверо, – проговорил Курт неспешно и, когда охотник непонимающе нахмурился, пояснил: – Стольких я убил, живя с уличной шайкой, еще до того, как мне исполнилось одиннадцать. И, если верить Бруно, и сейчас тоже склонен к агрессии, нетерпимости и отличаюсь вздорным и склочным характером. Не говоря о враждебности к окружающим.
– Согласен, – с чувством отозвался Ван Ален. – И, если я верно понял твой намек, то – да, люди порой попадаются и хуже. Но, знаешь ли, не все, с детства агрессивные, есть вервольфы, но все вервольфы агрессивны с детства.
– И этому есть объяснение, – возразил Курт, – вполне обыденное. Если, как ты говоришь, ликантропы создают потомство, делая одну попытку за другой со многими женщинами – стало быть, большинство, если не все они, внебрачные дети. Так?
– Выходит, так.
– А теперь, хоть бы и на примере одинокой мамаши Амалии и ее обожаемого Макса, вообрази себе, каково было отношение к ним этих самых окружающих, к которым злобные твареныши были столь нетерпимы и которым разбивали носы. Положение, прости Господи, выблядка в людском обществе есть штука пренеприятнейшая.
– По твоей логике выходит, что люди сами воспитывают в них злобу?
– Нет. Но, возможно, подстегивают.
– Вон из инквизиторов, – поморщился Ван Ален. – Иди в адвокаты. Посоветую тебя брату в наставники, и ни к чему тогда университет.
– Посоветуй, – вскользь улыбнулся Курт, и охотник, на миг осекшись, поджал губы.
– Не цепляйся к словам, – почти с угрозой потребовал Ван Ален. – И попробуй только сказать, что это твоя работа.
– Это моя работа, – подтвердил он благодушно. – Однако в моем и в твоем деле есть кое-что общее: мы оберегаем обывателя. Посему я бы предложил на сегодня завершить с лекциями (благодарю за сотрудничество) и приступить к этому самому делу. Время позднее, пора бы разогнать обывателя по комнатам и определиться с порядком стражи.
– Я первый, – непререкаемо и все еще недружелюбно выговорил охотник. – Я уже говорил: если он на что-то решится, то, скорее всего, в первую половину ночи, дабы оставить себе больше времени в запасе. Хочу быть здесь при этом. И, как бы вы с помощником ни лили горьких слез о его тяжкой судьбе – прикончить тварь.
– Ну, если ты так настроен, – пожал плечами Курт, поднимаясь. – Weidmanns Heil.[31]
* * *
– А настроен он серьезно, – отметил Бруно тихо. – Даже с моего места было слышно почти каждое слово. Не приведи Господь он узнает…
– Как я уже сказал – значит, не узнает.
Они переговаривались едва слышным самим себе шепотом, хотя комнату Курт выбрал самую дальнюю и глухую именно в расчете на то, что звуки, даже громкие, не проникнут ни в обиталища прочих постояльцев, ни в трапезный зал, где нес стражу серьезно настроенный охотник.
Каморка была небольшой и, судя по всему, порою использовалась в качестве то временной кладовой, то сдаваемой в самую последнюю очередь, от безысходности, комнаты – здесь имелась голая старая кровать без матраса, табурет и рассохшийся стол; в углу небольшой горкой высились сложенные друг в друга корзины, два пустых короба и мешок с ветошью. Светильник, принесенный с собою из их собственной комнаты, освещал пространство вокруг, пламя колебалось от тонкого, пронзительного сквозняка – в этой комнате окно было законопачено не столь добротно, и Хагнер, сидящий на полу, был тщательно завернут в два одеяла за неимением на нем прочей одежды. Веревка из багажа Амалии обвивала его сложным переплетением узлов и петель, местами впиваясь в кожу и давя ее до синевы. «Ничего, – возразил он спокойно на высказанные Бруно опасения. – Мне не повредит – это ненадолго. Когда все случится, именно здесь понадобятся самые плотные витки».
Амалия не говорила ничего – во время этих приготовлений она выполняла и впрямь привычные, судя по всему, действия молча, плотно сжав губы и не глядя по сторонам. Сейчас она сидела поодаль на пустой кровати, сложив на коленях руки, и на сына смотрела с состраданием.
– Как долго еще ждать? – уточнил Курт, когда молчание затянулось, а наличие голого связанного парня на полу стало навевать воспоминания о допросной.
– Минуты, – отозвался Хагнер, с трудом переводя дыхание. – Или того меньше. Мне почему-то кажется, что сегодня это случится раньше.
– Каково это? – чуть слышно спросил Бруно, и парнишка передернулся – не то от холода, не то при воспоминании о происходящем с ним в последние ночи.
– Больно, – произнес он не сразу. – Смертельно больно. Я не помню, что бывает после, помню лишь то, что происходит в начале обращения. Это – словно кто-то сдирает с тебя кожу, одновременно ломая кости, вспарывая ребра и выворачивая наизнанку. Буквально. В эти мгновения хочется умереть на месте.
– Понимаю, что надо было спросить раньше, – вмешался Курт, – однако лучше поздно, чем никогда: крики будут?
– Нет, – невесело усмехнулся Хагнер. – Вместо горла тогда как будто выкрученная тряпка, а челюсти сводит так, что кажется, вот-вот выкрошатся зубы. Шума не будет… Я даже думаю, мне было бы куда легче, если б в моменты обращения я мог хотя бы крикнуть, но не могу.
– Да, – согласился Бруно тихо. – Было бы легче.
– Знаете, о чем я еще думал, майстер инквизитор, когда еще только предполагал, воображал себе свой арест и прочее? Что бы там ни измыслили ваши истязатели – все это будут уже мелочи в сравнении с этим. Поднаторел, – хмыкнул Хагнер, приподнял голову, и, не увидев ни одной улыбки в ответ, вздохнул. – Да. Не смешно.
– Ты видишь это? – шепнул Бруно уже едва различимо; Курт не ответил – ответ был не нужен.
Глаза Хагнера, прежде светло-серые, потемнели, и расширившиеся зрачки сейчас отражали свет слабого пламени, точно крохотные зеркальца, напитавшиеся багровым. Едва явившаяся усмешка слетела с его губ, и мгновение тот сидел недвижимо, глядя прямо перед собой и не произнося ни звука.
– Господи… – выдавил парнишка, наконец, вздрогнув, и откинулся к стене, ударившись в нее затылком и зажмурившись. – Почему сегодня так… быстро…
– Началось, – впервые за последние полчаса разомкнула губы Амалия и прерывисто выдохнула, спрятав лицо в ладонях. – Боже мой, почему это происходит именно с ним!
Курт снова промолчал, не зная, чего сейчас хочется больше – отступить назад, подальше от творящегося перед ним существа, или шагнуть вперед, чтобы увидеть подробности никогда прежде не виданного действа.
Хагнер уже не говорил и не произносил вообще ни единого членораздельного звука. Он забился в связующих его путах; одеяло сползло с плеч, и явственно можно было различить, что каждая мышца, каждая жилка вытянулись, словно хорошо прилаженная тетива, и по бешеной пульсации вздувшейся на шее вены ясно было, что сердце колотится с неистовой скоростью, на пределе сил человеческих. Пальцы связанных у груди рук скорчились, точно у умирающего, и веревка впилась в кожу до крови, когда он напряг руки, силясь высвободиться.