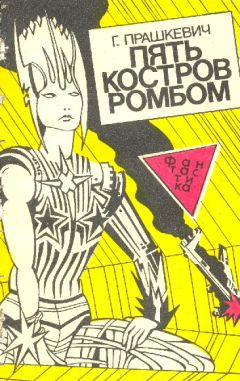— Ведь убить же мог! — пробасил Роман, глянув на ручищи Бобкина.
— Я этого и испугался, — пробубнил тот. — Как на утро проснулся, аж в дрожь бросило… Мучался, мучался, — шофер опять тяжело вздохнул, — и решил повиниться… Что теперь будет? Как себя этот художник чувствует? — жалобно взглянул он на Татьяну Алексеевну.
— Отвечать теперь будете, за злостное хулиганство, — тоже вздохнув, ответила Феоктистова. — А художник чувствует себя нормально.
— Хоть это слава богу, — он снова жалобно взглянул па следователя. — Вы сейчас меня посадите?
Феоктистова улыбнулась:
— Думаю, в этом нет необходимости…
— Выходи, парень, на работу, трудись как положено, — подсказал Роман, покосившись на Татьяну Алексеевну.
Феоктистова кивнула:
— Принесете мне характеристики с места работы я жительства, тогда будем решать окончательно.
— У нас, где работа, там и жительство, — улыбнулся повеселевший Бобкин, — а характеристики у меня хорошие, вкалываю я от души… — он помялся. — Мне бы перед художником извиниться.
— В гостинице он, только ты поторопись, через два часа самолет, — подал голос Вязьмикин.
— Спасибо! — обрадованно бросил Бобкин и выскочил из кабинета.
Когда дверь за ним захлопнулась, Татьяна Алексеевна растерянно посмотрела на Романа:
— И вы улетаете?..
Роман потупился.
— Работа…
…Свиркин, прыгая через две ступеньки, легко вбежал по трапу; Ершов, закинув на плечо тяжелый рюкзак, постоял на площадке у люка самолета и, еще раз взглянув на Байкал, шагнул внутрь; Хабаров поднялся на несколько ступенек, потом, вспомнив о чем-то, вернулся и, подойдя к одиноко стоящим в стороне от суетящихся пассажиров Роману и Татьяне Алексеевне, взволнованно проговорил:
— Я вас попрошу, очень попрошу, если можно, не садите этого парня… У него хорошие глаза, он ошибся…
Феоктистова оторвала взгляд от грустного лица Романа и улыбнулась:
— Мне тоже так показалось… Если прокурор согласится, передам дело на рассмотрение товарищеского суда.
— Вот это будет правильно, — сказал Хабаров и побежал к самолету.
Толстая пожилая стюардесса терпеливо ждала, когда последний пассажир — Роман сядет в самолет. Взглянув на часы, она не выдержала и добродушно крикнула:
— Пора уже… Целуйтесь что ли!
Роман неловко прижал Татьяну к себе. Она смущенно клюнула его в щеку и, слегка оттолкнув, шепнула:
— Беги…
Медленно пятясь к самолету, Роман повторял:
— Я тебе напишу…
Петр ворвался в мой кабинет и с размаху плюхнулся на стул:
— Ершов-то жив!
Немного подумав, я отозвался:
— Это хорошо… Но не очень понятно.
— Чего же непонятного?! У него был кризис! У всех художников такое бывает. Представляете, Николай Григорьевич, он совершенно не мог работать, все валилось из рук. Тут как раз проездом знакомый его оказался, егерем на Байкале работает. Ну и пожалел, увез с собой. И правильно сделал. Ершов на кордоне ожил, природа на него так подействовала, снова за кисть взялся и целую кучу картин написал. Мы в избу врываемся, а Ершов преспокойненько за мольбертом стоит. Но все равно я считаю, нехорошо он поступил, — без перехода закончил Свиркин.
— Да-а… Нелепо все получилось, — сказал я, неторопливо разминая сигарету. — Что же это он так? Не позвонил, не сообщил никому…
— Мы с Романом тоже его отругали, да и он сам сейчас понял, переживает. Говорит, когда в поезд садился, без вещей был, их егерь потом привез, да в попыхах сумку на перроне оставил, а там книжка записная, та самая, что у Мозгунова обнаружена. В ней телефоны, адреса. Вот и почувствовал себя Ершов оторванным от привычного мира, словно провода перерезали.
Понемногу все становилось на свои места. Только я не мог сообразить, каким образом картины Ершова оказались на выставке в Северобайкальске под чужой фамилией.
— Да он и не знал об этом! — горячо воскликнул Петр. — Останин решил народ порадовать и свою личность показать, увез потихоньку несколько работ, а объяснить ничего толком не сумел. В Доме культуры спросили его фамилию и записали, как автора. А картины мне понравились, особенно портрет Останина. Прямо цветная фотография, каждый волосок в бороде прорисован! Это направление сейчас такое в живописи — гиперреализм…
Свиркин не успел рассказать об этом направлении. Ere прервал ввалившийся в кабинет Роман.
— Ты отчет по командировке думаешь писать? — пробасил он, потом повернулся ко мне: — Привет, Николай. Ты уже в курсе?
— Да… Только Петя не сказал, где Ершов.
Роман хмыкнул:
— Мы вместе прилетели. Я ему не завидую. Хабаров всю дорогу его пилил, а теперь к себе в мастерскую поволок. Дальше будет воспитывать.
17 апреля. Свиркин, Вязьмикин
Роман, чуточку небрежно помахивая желтым командировочным портфелем, вышагивал вниз по Красному проспекту. Петр старался подстроиться под размеренный темп его шагов, но это никак не получалось. Он то забегал вперед, то отставал.
У гастронома “под часами” Свиркин дернул коллегу за рукав:
— Давай заскочим, газводы попьем. Что-то сегодня жарковато.
Вязьмикин осуждающе посмотрел:
— У нас автобус через час восемь минут.
— Так до автовокзала два шага!
— Возьмем билеты, потом будем газводу пить, — менторским тоном проговорил Роман, но тут же оживился: — Смотри, персональная выставка Хабарова!
Петр замер перед большим щитом, на котором крупными синими буквами была выведена фамилия их знакомого. Он взглянул на часы и предложил:
— Давай забежим! Сегодня же открытие!
— А в Ордынку кто поедет?
Роман двинулся дальше, но Свиркин цепко поймал его за локоть:
— Только глянем, а?
Вздохнув, Вязьмикин согласился.
В вестибюле выставочного зала он почувствовал себя неловко и украдкой спрятал за спину потертый портфель. Кругом все друг друга знали, раскланивались, интересовались здоровьем, спрашивали о детях, о внуках. Кто-то говорил собеседнику, что получил огромное удовольствие от знакомства с его новыми работами, а тот в свою очередь уверял: “Ну что вы?.. Это уж слишком. Работы слабенькие, а вот ваши индустриальные пейзажи Алтая!..”
Петр непринужденно и с явным любопытством вертел головой, разглядывая вытянутые на локтях пуловеры, строгие костюмы, вечерние туалеты женщин, перекинутые через плечи спортивные сумки, цветы.
— Петр Ефимович! Какой вы молодец, что пришли! — вынырнул из толпы виновник торжества. — Роман Денисович!