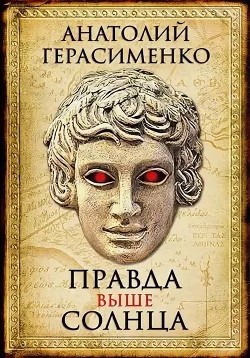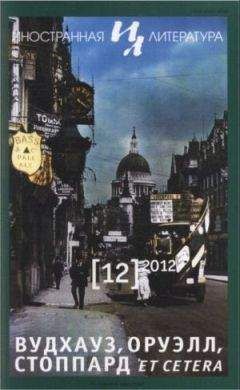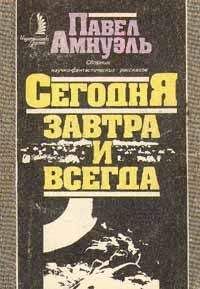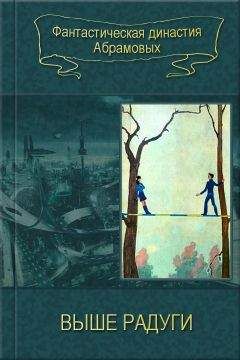☤ Глава 4. Сострадание есть немощь
Парнис. Одиннадцатый день месяца гекатомбеон а, час после восхода, то есть примерно за две недели до описанных выше событий.
Время на Парнисе узнавали по настенным часам. Удивительное дело, но многие жрецы, впервые попавшие в лабораторный комплекс, больше всего поражались не сиянию осветительных кристаллов, не защитному полю и не горячей воде, текущей из труб в купальнях. Это всё вполне укладывалось в их представления о божественной обители: повседневная роскошь, обязанная происхождением магии. Магии необъяснимой, но и не требующей объяснений. А вот механические часы, которые работали от заведённых пружин без всякого волшебства, потрясали новобранцев сильней прочих чудес. Эллины чтили науку и знали цену её достижениям.
Часы в спальне Кадмила были почти бесшумными, с большим квадратным циферблатом. Цифры и стрелки светились в темноте зелёным, а резная деревянная рамка изображала какой-то неведомый сюжет с участием атлетически сложенных людей в батимской одежде. Эти часы Локсий привёз из своего родного мира десять лет назад, и с тех пор их ни разу не пришлось подводить.
Сегодня Кадмил впервые подумал, что часы испортились. Когда он проснулся и по привычке, едва открыв глаза, бросил взгляд на стрелки, то обнаружил, что обе, и большая, и малая, сошлись на двенадцати. «Не мог же я проспать всего час, – подумал он. – Заснул ведь около одиннадцати… Стоп, а почему так светло?»
Он потянулся, зевнул. Скривился, ощутив странное неудобство в шее, и тут же всё вспомнил. А, вспомнив, сообразил: светло в комнате из-за того, что за окном сияет солнце. Он проспал не четыре часа, как привык, а тринадцать.
Тринадцать!
Тело, лишённое божественных способностей, потратило впустую больше половины суток.
Кадмил длинно, шумно выдохнул, раздувая щёки. Привыкай, бывший вестник богов. Теперь будешь, как прочие человечки, ходить по земле и спать от заката до рассвета. «Золотая речь» станет обычными словами, слабым ветром, исходящим от губ. Невидимость придётся оставить бесплотным духам. И, главное – забудь о пневме. Это удовольствие больше не для тебя.
Он рывком сел на ложе, крякнув от ломоты в шее. «Ну и ладно, – пальцы осторожно тронули шрам на горле. – Ладно. Нет способностей – обойдёмся без них. Локсий говорил что-то про регенерацию. Кажется, заживает всё и впрямь быстро… Однако неужели совсем-совсем ничего не осталось?»
Как был, босиком, в не подпоясанном хитоне, Кадмил вышел на балкон. Хмуро поглядел вниз, на заросли маслин и терновника, казавшиеся отсюда, с огромной высоты, сплошным серебристо-зелёным ковром. Протянул руку за перила. Незримая стена упруго встретила ладонь, ожгла предупреждающей, несильной болью. Вот, значит, каково приходится жрецам, запертым на Парнисе защитным полем. Что ж, глупо было думать, что Локсий забудет перенастроить барьер.
Как насчёт всего остального?
Он сосредоточился, подобрался. Вверх! Лететь! Ну же, давай! Сдвинул брови, сощурился, ловя на краю зрения мельтешение парцел. На миг показалось – увидел их: рой полупрозрачных точек, чьё знойное трепетание раньше поднимало его ввысь. На миг показалось – тело стало лёгким, воздух прянул в лицо, и ноги перестали чуять землю. Он зажмурился, расправил плечи, подставил лицо солнцу… Но, когда открыл глаза, то увидел, что по-прежнему стоит на балконе, босиком на мраморном полу.
Кадмил в сердцах плюнул через перила и мрачно проследил, как плевок стекает по невидимой стене. Локсий говорил, внутри каждого человека скрыт неповторимый шифр, по которому можно отличить одного от всех прочих. Этот же шифр есть и в крови, и в слюне, и в прочих жидкостях тела. Слабого, никчемного, жалкого людского тела. Похоже, ни одна, даже самая малая часть Кадмила не могла теперь покинуть Парнис.
Вздохнув, Кадмил вернулся в покои и позвонил в колокольчик. Прежде чем вступать в единоборство с судьбой, следует привести себя в порядок. А то ведь так и уснул вчера, не отмывшись от этой дряни, в которой плавал два месяца кряду.
Вскоре дверь отворилась, впустив раба с одеждой, полотенцем и бритвенными принадлежностями. Поклонившись, раб зашёл в купальню, проворно разложил на краю раковины бритву, мыло и помазок, повесил на крючки всё, что нужно было повесить, и собрался было уйти восвояси.
– А ну-ка погоди, – велел Кадмил. – Встань вон там, у стенки.
Раб покорно застыл, глядя перед собой. «Невидим, невидим, – подумал Кадмил с трепетом. – Нет меня здесь. Только солнце играет на полу, только простыни сбились в кучу на кровати, только ветер шевелит занавеску. За окном парит чайка, в углу паук чинит сети, под потолком вьётся муха, которая скоро пойдёт пауку на завтрак… А больше здесь никого нет, нет, нет».
Кадмил щёлкнул пальцами. Раб, всё так же смотревший прямо вперёд, встрепенулся и моргнул.
– Видишь меня? – спросил Кадмил.
– Да, мой бог, – отозвался раб.
Кадмил из всех сил сконцентрировался, закусил губу. «Нет меня! Нет меня! Фреску за моей спиной отлично видно, потому что меня здесь нет! Треснувшую плитку, черную, с молочной прожилкой под моими ногами – и её видно прекрасно, потому что меня нет! Не отбрасываю тень, не занимаю места, не дышу, не издаю звуков! Меня нет!!»
– А теперь видишь? – спросил он напряжённо.
– Да, мой бог, – ответил раб.
– И всё время видел?
– Что видел, мой бог?
– Меня, – процедил Кадмил сквозь зубы.
– Да, мой бог.
Кадмил перевёл дух. «Смерть и кровь, – подумал он. – Похоже, Локсий и впрямь забрал всё подчистую. Ну, осталось попробовать лишь одно». Он прочистил саднившее горло.
– Нет, человече, – произнёс он внушительно, – зрил ты лишь покинутую келью, приют без жителя. Постель пустую, стол и солнца свет, что лился из окна – меня не видел ты!
Раб молчал.
– Ну, что скажешь?– спросил Кадмил, понизив голос. – Был я здесь?
– Когда, мой бог?
– Сейчас!..
– Да, мой бог, – раб помялся, явно не понимая, чего от него хотят. Потом неуверенно добавил: – Вы всю ночь тут были. Госпожа Мелита велела дежурить под дверью на случай, если вам занеможется, и я слышал, как вы храпели...
– Всё, ступай, – буркнул Кадмил.
Раб страдальчески сдвинул брови:
– А вам не занеможется?
– Прочь с глаз моих!
Раб опрометью кинулся вон.
– И принеси пожрать! – крикнул Кадмил ему вдогонку.
Шрам жутко чесался, шею ломило по кругу, вдоль хребта ползли огненные мурашки. Кадмил хлопнул дверью купальни, пустил горячую воду и принялся яростно намыливаться.
«Вот паскудство, – думал он, вертясь под струями. – Ничего не осталось, ничегошеньки. Ну, хоть голос восстановился, и на том спасибо. Пойду-ка сейчас к Мелите. Вместе что-нибудь сообразим».
Желудок требовательно заурчал. Кадмил сглотнул слюну. Он вдруг понял, что голоден, да так, как не бывал голоден уже много лет. Организм, не получив обычной порции пневмы, отчаянно требовал энергии – хоть какой. Торопливо соскоблив бритвой неряшливую двухмесячную бороду, Кадмил выключил воду, оделся и хотел вернуться в покои – там, судя по звукам и запахам, рабы как раз накрывали на стол. Но не удержался, протёр ладонью запотевшее зеркало. Посмотрел на себя.
Из зеркала глядел незнакомец. Мокрые отросшие волосы обрамляли бледное лицо с проступившими от худобы скулами. Меж бровями залегла складка, которой раньше не было. Розовый шрам, похожий на безобразное ожерелье, охватывал горло. Всё это зрелище Кадмилу совершенно не понравилось. Более-менее приемлемо выглядели только глаза: взгляд был какой надо, злой и решительный. Впрочем, впечатление портили тёмные полукружья под нижними веками.
Кадмил почесал шрам, скривился (незнакомец скривился в ответ) и пошёл завтракать.
Умяв камбалу, запечённую с луком, и заев рыбу целой горой лепёшек с зеленью, он почувствовал себя значительно бодрее. Последняя лепёшка на блюде оказалась самой румяной. Кадмил раздумывал, стоит ли присоединить её к товаркам или пощадить, и тут дверь в покои отворилась. Он не поднял голову, думая, что это вернулся раб. Лишь перелил остатки ледяной воды из амфоры в килик, чтобы оставить чашу при себе, когда унесут посуду.