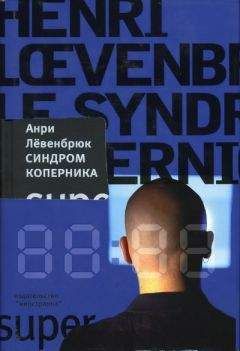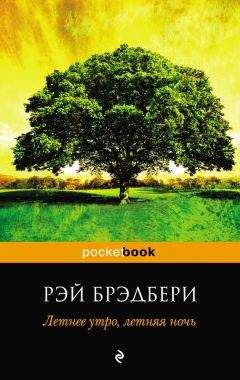Я стукнул кулаком по раковине, открыл аптечку и принял две таблетки лепонекса от галлюцинаций и депамид для поднятия духа. Испытанный коктейль при самых тяжелых обострениях. Еще несколько минут, и он подействует.
Когда я вернулся в гостиную, какой-то журналист сидел на моем диване и брал интервью у одного из ответственных за безопасность района Дефанс. Суровый тип. Я взял сигарету и присел рядом с ними.
— … на своей последней пресс-конференции власти сообщили уже о более чем 1300 погибших. Известно ли точно, сколько человек находилось в башне в момент взрыва?
— Пока рано об этом говорить. В августе численность служащих офисов заметно снижается. Но в целом в летнее время не меньше двух тысяч человек приходят по утрам на работу…
— Значит, по-вашему, могло быть две тысячи жертв?
— В данный момент я ничего не могу утверждать… Мы лишь надеемся, что их число будет минимальным, и разделяем скорбь родных и близких…
— Кто именно находился в башне в момент взрывов?
— Ну, разумеется, весь обслуживающий персонал башни, а также, главным образом, сотрудники фирм.
— Сколько компаний имели офисы в башне КЕВС?
— Около сорока.
— Какого профиля компании?
— Разумеется, там располагался центральный офис КЕВС, компании европейских вооружений, которой принадлежала башня. Но предприятие сдавало значительную часть помещений другим фирмам. В основном частным. Оказание тех или иных услуг, страховые общества, компьютерный сервис и все в таком роде…
Я нахмурился. В основном частные фирмы? А как же тогда огромный медицинский центр, занимавший весь последний этаж, где работал доктор Гийом, мой психиатр? Почему его не упомянули?
Доктор Гийом… Его лицо всплыло у меня в памяти, а те двое исчезли с дивана.
Ах, если бы мой психиатр был здесь! Уж он-то смог бы меня успокоить! Он бы помог мне разобраться в происходящем, в моих галлюцинациях, не дал увязнуть в безумии. И я снова стал бы нормальным шизиком. Славным тихим шизиком. Но я должен был смириться с очевидным. В настоящее время доктор Гийом мертв. Погребен под обломками, сгорел дотла. И выходит, я один должен разобраться в том, что происходит. Один, один-одинешенек.
Я зажмурился, представив себе обгоревшее тело моего психиатра. Печали я не испытывал, скорее, осознавал весь драматизм случившегося. Эгоистично размышлял, как восстановить свою медицинскую карту. Разве можно пересмотреть мой диагноз, если записи, которые мой психиатр вел более пятнадцати лет, пропали?
Я прогнал эту мысль из головы. Непристойно даже думать о своей медицинской карте, тогда как доктор Гийом погиб. Превратился в кучку пепла. Я вдруг понял, что мои родители будут удручены известием о кончине психиатра.
Мои родители… Теперь я подумал о них. Как вышло, что они до сих пор мне не позвонили? Ведь они прекрасно знали, что каждый понедельник утром я бываю в этой башне. Может быть, они еще не знают о катастрофе. На отдыхе, в домике, который они снимали на Лазурном Берегу, им случалось по нескольку дней не смотреть телевизор и не читать газет. В настоящее время они наверняка преспокойно потягивают коктейль возле бассейна, даже не подозревая, что их сын выжил в самом страшном теракте, когда-либо совершенном на французской земле.
Признаюсь сразу: мои отношения с родителями, Марком и Ивонной Равель, теплыми не назовешь. Но как бы то ни было, они, кажется, по-своему интересовались моей участью. Достаточно, во всяком случае, чтобы предоставлять мне кров и напоминать о еженедельных визитах к доктору Гийому. Можно сказать, что мы поддерживали уважительные и сердечные отношения, и они заботились обо мне, не жалуясь на мое психическое расстройство. Но особо горячей любви друг к другу мы не испытывали. Разумеется, дело тут было и в том, что я ничего не помнил ни о своем детстве, ни даже об отрочестве. Ни о них, ни о себе. Нас не связывали общие воспоминания: совместный отдых, праздники, семейные торжества… Я ничего не помнил и чувствовал себя не таким, как они. Почти чужим.
Хотелось бы мне, чтобы я был в состоянии долго говорить о своем отце, о своей матери, но, если быть честным, мне кажется, я их совсем не знаю. Ужасно, но я даже не мог бы сказать, сколько им лет. Мне ничего не известно ни об их прошлом, ни об их детстве. Ни о том, как они познакомились, где и как поженились, словом, ничего из того, что дети всегда знают, а однажды начинают и понимать. В конечном счете в повседневной жизни меня с ними мало что связывало. Да и со всеми другими, если быть точным. Не считая моего начальника и психиатра. Хотя это были, скорее… профессиональные отношения.
По выходным родители уезжали в свой загородный дом в Эр. Я оставался дома один, радуясь, что могу располагать квартирой, окруженный привычным одиночеством. По будням, когда я приходил вечером с работы, они уже успевали поужинать, и мать оставляла мне что-нибудь на кухне. Я ел за кухонным столиком, и до меня из их спальни доносился приглушенный звук телевизора. Иногда я слышал, как они спорят. Я старался не думать, что причиной их ссор был я. Мое имя звучало нередко. Через несколько минут отец повышал голос, затем все стихало. Словно приводил какой-то решающий довод, который каждый раз прекращал спор. И мать сдавалась. Часто после таких ссор мы с ней сталкивались в гостиной. Почти смущенные, обменивались ничего не значащими словами. Она выглядела огорченной, но я не испытывал жалости. Вежливо улыбнувшись, я уходил к себе в комнату и запирался там до утра. Я читал книги, целые горы книг, и делал заметки — целые кипы заметок, а потом засыпал, стараясь ни о чем не думать. Такая изоляция лучше всего помогала забыть о голосах. В этом было что-то жутковатое, и я это понимал, но, по крайней мере, меня это не так угнетало. И хотя внутри меня обитал кто-то, мечтавший о другом, об иной жизни, я в конце концов привык к тому, что имел. Научился довольствоваться хрупким покоем. В любом случае, побочные действия нейролептиков не давали мне возможности попытаться что-либо изменить. Да и родители к этому не стремились.
Временами мне казалось, что они пребывают в той же прострации, что и я. Они напоминали карикатурных пенсионеров, которых показывают в рекламе страхования жизни. Не хватало только фальшивой улыбки.
Им было уже далеко за шестьдесят, и оба они всю жизнь проработали в каком-то министерстве — хотя бы это я знал. Но в каком именно, понятия не имел. Они всегда говорили просто «министерство». К тому же мои воспоминания не простираются так далеко. Сколько я себя помню, они всегда были на пенсии.
В каком-то смысле все это меня устраивало. Нередко я спрашивал себя, что бы я стал делать, будь у меня более заботливые и любящие родители. Может, они бы меня доставали? Может, мне стало бы только хуже?