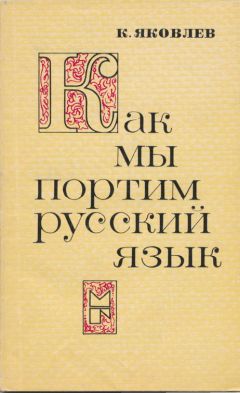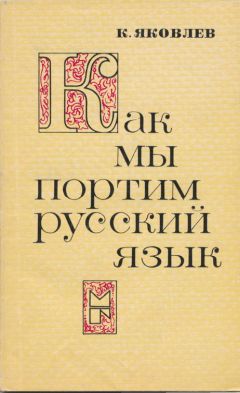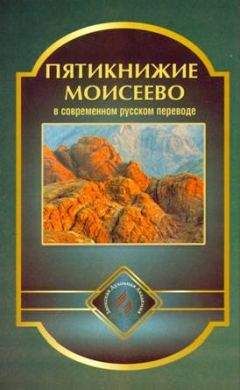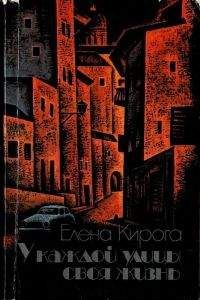и усыпанная цветами ветка падает на то самое место, на котором я была всего мгновение назад.
Как ни в чем не бывало я подхожу к монашке и, разжав зубы, бросаю ветку с цветами в миску для подаяний.
– Никакой житейской грязи. И ты сказала только, что нельзя трогать руками.
* * *
Мы сидим в тени софоры, скрестив под собой ноги в позе лотоса, словно будды в храме. Монашка берет цветки за стебелек: один себе, другой мне. Сладкий вкус мягче и не такой приторный, как обсыпанные сахаром фигурки из муки, которые мне иногда покупает отец.
– У тебя есть дар, – говорит монашка. – Из тебя получился бы хороший вор.
Я смотрю на нее в негодовании, и глаза мои сверкают.
– Я дочь военачальника!
– Вот как? – говорит монашка. – Значит, ты уже воровка.
– Что ты имеешь в виду?
– Я прошла пешком долгий путь, – говорит монашка. Я смотрю на ее босые ноги: заскорузлые пятки покрыты мозолями. – Я вижу голодающих крестьян в полях, а тем временем важные вельможи вынашивают планы, как собрать еще более многочисленное войско. Я вижу, как придворные и военачальники пьют вино из кубков из слоновой кости и своей мочой выводят иероглифы на шелковых свитках, а тем временем сироты и вдовы вынуждены растягивать одну плошку риса на пять дней.
– То, что мы не бедняки, еще не делает нас ворами. Мой отец преданно служит своему повелителю, цзедуши провинции Вейбо, и с честью выполняет свой долг.
– Все мы воры в этом мире страданий, – говорит монашка. – И честь и преданность – это не добродетели, а лишь оправдание, чтобы воровать больше.
– В таком случае ты тоже воровка, – говорю я, чувствуя, как мое лицо заливает краска гнева. – Ты принимаешь подаяние и не работаешь, чтобы его заслужить.
– Да, я воровка, – кивает монашка. – Будда учит нас, что мир – это иллюзия и страдания неизбежны до тех пор, пока мы этого не поймем. Но уж если нам назначено судьбой быть ворами, лучше быть вором, который придерживается правил, выходящих за рамки мирской суеты.
– И каковы же твои правила?
– Презирать моральные нравоучения лицемеров, быть верной своему слову, всегда выполнять свои обещания – не больше и не меньше. Оттачивать свой дар, превратив его в путеводный маяк в этом погружающемся во мрак мире.
Я смеюсь.
– И каков же твой дар, госпожа Воровка?
– Я краду жизни.
* * *
В комнате темно и тепло, в воздухе стоит запах камфары. В слабом свете, проникающем в щель между дверями, я поправляю одеяла, устраивая себе уютное гнездышко.
Шаги часовых гулко разносятся по коридору, в который выходит моя спальня. Каждый раз, когда один из них заворачивает за угол, бряцание меча и доспехов означает, что прошла еще какая-то доля часа, приблизив меня к утру.
Я мысленно прокручиваю в голове разговор монашки с моим отцом.
– Отдайте ее мне. Она станет моей ученицей.
– Хоть я и польщен милостивым вниманием Будды, я вынужден отказаться. Место моей дочери дома, рядом со мной.
– Вы можете отдать мне ее по доброй воле, или же я заберу ее без вашего благословения.
– Ты угрожаешь мне похищением? Знай, что я добился места в жизни своим мечом, и мой дом охраняют пятьдесят вооруженных воинов, каждый из которых без колебаний отдаст жизнь за свою юную госпожу.
– Я не угрожаю – я просто сообщаю. Даже если ты поместишь свою дочь в железный сундук, опутаешь сундук бронзовыми цепями и бросишь на дно моря, я заберу ее с той же легкостью, с какой режу хлеб вот этим кинжалом.
Последовала холодная яркая металлическая вспышка. Отец выхватил меч, от скрежета лезвия по ножнам у меня екнуло сердце.
Но монашка уже исчезла, оставив после себя лишь несколько прядей седых волос, парящих в воздухе в косых лучах солнца. Мой отец ошеломленно потрогал рукой лицо там, где по щеке скользнул кинжал.
Волосы упали на землю; отец отнял руку от лица. У него на щеке оголилась полоска кожи, бледная, как каменные плиты дороги в свете утреннего солнца. Крови не было.
– Не бойся, доченька! Этой ночью я утрою охрану. Тебя защитит дух твоей ушедшей матери.
Но мне страшно. Мне очень страшно. Я вспоминаю нимб солнечного света над головой монашки. Мне нравятся мои длинные густые волосы, которые, как говорят мне служанки, похожи на волосы моей матери, а та каждый вечер расчесывала их по сто раз, перед тем как лечь спать. Я не хочу, чтобы мне обрили голову.
Я вспоминаю блеск стали у монашки в руке, молниеносный, неуловимый глазу.
Я вспоминаю пряди волос отцовской бороды, плавно падающие на пол.
Огонек масляного светильника у двери шкафа дрожит. Я забиваюсь в угол и зажмуриваюсь.
Меня обнимает полная тишина. Лишь сквозняк ласкает мое лицо. Нежный, подобный трепету крылышек мошки.
Я открываю глаза. Какое-то мгновение я не понимаю, что́ вижу.
Примерно в трех локтях от моего лица в воздухе висит продолговатый предмет размером с мою руку, имеющий форму кокона шелковичного червя. Сияя, словно полумесяц, он испускает свет, который не дает тепла и не отбрасывает тени. Зачарованная, я пододвигаюсь ближе.
Нет, слово «предмет» не совсем подходит. Холодный свет будто исходит из тающего льда вместе со сквозняком, треплющим мне волосы. Это больше напоминает отсутствие вещества, рваную дыру в полумраке спальни, отрицательную сущность, которая поглощает темноту и превращает ее в свет.
У меня пересыхает в горле, и я с трудом перевожу дыхание. Дрожащими пальцами я тянусь к сиянию. Полмгновения нерешительности – и я прикасаюсь к нему.
Но никакого контакта нет. Нет ни обжигающего кожу тепла, ни леденящего холода. Мое впечатление о том, что предмет имеет отрицательную сущность, подтверждается, поскольку мои пальцы ничего не встречают. И они не выходят с обратной стороны, а просто исчезают в свечении, словно я погрузила руку в дыру в пространстве.
Я отдергиваю руку назад и шевелю пальцами, изучая их. Никаких повреждений я на них не вижу.
Из разрыва появляется рука, хватает меня и увлекает навстречу свету. Я даже не успеваю вскрикнуть – яркий свет ослепляет меня, мне кажется, будто я падаю, падаю с верхушки вытянувшейся до небес софоры к земле, которой все нет и нет.
* * *
Гора плавает в облаках, словно остров.
Я пыталась найти дорогу вниз, но неизменно сбивалась с пути в затянутых туманом лесах. «Просто иди вниз, вниз», – говорю я себе. Но туман сгущается настолько, что становится осязаемым, и, сколько я ни нажимаю на нее, облачная стена не поддается. Мне не остается ничего другого, кроме как сесть, дрожа от холода, отирая с волос влагу. Отчасти эта влага от слез, но я в этом не признáюсь.
Она материализуется из тумана. Не говоря ни слова, она кивает, приглашая меня следовать за ней обратно вверх; я повинуюсь.
– Прятаться у