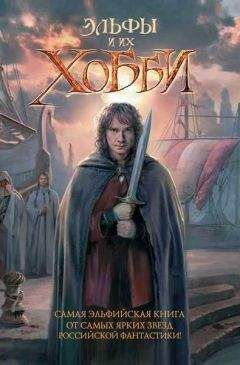Теперь Роман все время сидел дома и плел вместе с младшими короба из ивовых прутьев, пока батя с Митром на куренной поляне ломали кабан и копали уголь. Как только снег окончательно станет, по зимней дороге приедет на розвальнях управляющий и увезет в коробе уголь, тот, что получше. А тот, что похуже, батя с сыновьями сам повезет вниз, на ярмарку… Но прутья у Романа ложились криво, потому что обгорелые руки не слушались, и оттого Роман злился еще больше. К тому же снег никак не мог лечь, выпадал и стаивал, выпадал и стаивал, сменялся секучим дождем, заключавшим ветки в ледяные короба. Дорогу развезло, и поговаривали, что в ближнем лесу уже видели медведя-шатуна, а то и нескольких.
Потом снег все ж таки стал, как раз к Николе, приехал управляющий, красный, довольный, в теплой шубе, потрепал Ганку холодной красной рукой по голове, сказал, мол, красавицей девка растет, и в тот же день уехал с коробом угля, так, что только снежная пыль вилась за санями. А потом и батька с Митром запрягли Гнедка и отправились на ярмарку, а Роман остался и молча выходил на двор, стоял у плетня и так же молча возвращался и ложился лицом к стене: его новая кожа не выносила холода и слезала клочьями.
С ярмарки батя привез обновки — матусе яркую шаль, младшим — пряники, а ей, Ганке — яркую ленту и круглое зеркальце в оправе из стекляшек. Зеркальце было маленькое, но каким-то чудесным образом вся Ганкина физиономия туда помещалась, и Ганка при свете зимнего холодного утра пыталась разглядеть, и правда ли она стала красавицей, как сказал пан управляющий?
И решила, что нет, — красавицы беленькие, розовенькие, синеглазые, вроде ледяных девок, а она, Ганка, как была чернявой, так и осталась. Правда, что-то в ней появилось новое, самой ей непонятное, потому что зеленокутские парубки что-то уж очень часто стали ходить мимо их окошек, в распахнутых тулупчиках, поигрывая топориками с резной рукоятью. И как бы просто так ходят, а нет-нет, да и кинут взгляд в окошко, за которым сидит за пяльцами Ганка и вышивает то крестиком, то гладью.
И матуся говорит, что весной, пожалуй, надо будет принимать сватов, а батя молча кивает.
И еще матуся тихо плачет ночами… Батя храпит, ничего не чует. Но Ганка слышит.
Ганка и сама ночами плачет и прислушивается все, прислушивается — не ходит ли кто вокруг хаты под холодной полной луной, не трется ли о плетень… А морозным синим утром как подоит корову, тихо-тихо обходит хату, сначала посолонь, а потом и противосолонь… И пока никто не видит, снимает с жердины жалко обвисший, покрытый инеем веночек — из зеленых еловых веток, из рыжих сухих листьев дуба, и аккуратно обирает ладонью свисающие с плетня космы рыжей шерсти. А следов на снегу уже нет, потому что перед рассветом прошла поземка.