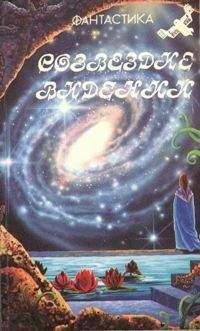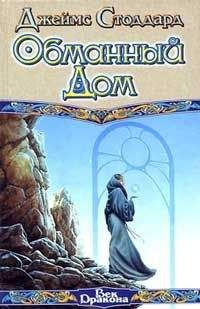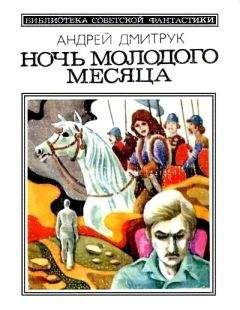Андрей Дмитрук
Сон о лесном озере
Но Он знает путь мой; пусть испытает меня, — выйду, как золото.
Книга Иова, 23.10
Откуда взялась эта история — не то сказка, не то быль? Выплыла ли она из глубины родовой памяти? Сложил ли ее, от самого себя скрывая механизм работы, холодный тренированный рассудок? Был ли то вещий причудливый сон наяву — или, может быть, не вещий, а пустой и обманный?.. Не знаю… Но что-то настойчиво толкает мою руку: запиши, запиши! Чтобы не пропало, не рассеялось…
На истоке жестокого века шестнадцатого, — впрочем, возможно, уже начинался кровавый семнадцатый, — погожим летним днем собирая землянику в бору пана Щенсного, крестьянка означенного пана, семнадцатилетняя Настя Мандрыка, услышала тихий стон. Недолго поискав, обрела Настя под корявым столетним дубом, в гуще крапивы, израненного молодого казака.
Сперва хотела она закричать во всю глотку и броситься в село за подмогой, но ладошкою рот себе зажала, сообразив, что после недавних боев между шляхетским войском и бунтарями из числа реестровых[1] — раненый казак случайно в лесу не возьмется. Дознавшись про Настану находку, мог пан Щенсный своею, волею посадить парня на кол либо отправить в город, к судьям немилостивым. Поэтому девушка стала молча рассматривать беднягу, прикидывая, как бы ему помочь.
Видимо, казак немало прополз от того места, где принял раны. Трава была примята полосою, словно по ней куль тащили, и часто закапана кровью. Боль и жара измучили раненого, губы его спеклись, лицо скрывала маска из пыли, замешанной на поту. Увидела зоркая Настя и то, что изодранный синий жупан казака сшит из дорогого сукна, персидская сабля осыпана ясными камениями, а зеленого сафьяна сапоги не стыдно бы и магнату надеть в праздник…
Взвалить парня на плечи не удалось; волочить, взяв под мышки, было тяжело и неловко. Поразмыслив немного, Настя лишь дотянула его до ближайших кустов лесного ореха, где и спрятала. А тогда уже со всех ног пустилась домой, за отцом.
Вдовый Степан Мандрыка на редкость подвижный и дюжий для своих шестидесяти пяти (Настя была младшая, два сына сгинули в крымском полоне), без лишних слов запряг Гнедка и поехал за раненым. На телеге, под соломою, обессилевший казак был тайно привезен в Степанову хату.
Вечерело. Завесив окна, при свете лучины Мандрыка, слывший ведуном и лекарем, раздел раненого догола. Настя было отвернулась, но отец заставил смотреть и помогать:
— Учись! Я. помру; тебе людей пользовать.
Поджарое бледно-смуглое тело казака было перекрещено по груди и плечу двумя порубами, кровь толчками выплескивалась из них. Степан бормотал, склоняясь над ужасными ранами и поводя рукою:
— Рубили не больно, кололи не колко; кровь алая, руда, сукровичная, остановись, не иди, а будь в рабе Божием, имени не знаю, и теки по жилочкам, куда надобно и как надобно; а на волюшке тебе делать нечего, попадешь ты на сырую землю и пропадешь пропадом. Говорю, руда красная, сукровичная, не теки куда не надобно, а теки, где тебе назначено, и будет тебе хорошо, хорошо, а рабу Божьему, имени не знаю, легко, легко! Остановись же, руда алая, я велю тебе и ты слушайся; речь сильна моя и крепка она, аки камень адамас! Остановись, остановись, остановись!..
Обильный пот выступил на лбу Степана… То ли усмиренная целебными токами от пальцев лекаря, то ли ловко пережатая в знаемых стариком подкожных руслах, или впрямь заговоренная-заклятая, густела, успокаивалась «руда». Но много еще бессонных часов провели Степан с дочерью над полатями, где уложен был раненый, ловя каждый стон его, каждый рывок метавшегося тела… Пошли в ход свежие листья девясила, масло на цветах зверобоя, сок тысячелистника… а под утро, когда совсем жалобно закричал пришедший в сознание казак, знахарь дал ему настоя белены.
Трепет пробежал по лицу, дрогнули губы под черными тонкими усами, задергались веки, и раненый открыл глаза. Солнце за подслеповатым окошком падало в лес; последний нестерпимый отблеск плавленой меди растревожил и пробудил казака.
Едва повернул он шею, огляделся. Жилище Степана внушало покой — чистое, со скромной нарядностью образов в красном углу, и расписной скрыни, и шитой скатерти на дубовом столе. О знахарстве хозяина говорило множество сухих трав, подвешенных к потолочному брусу; девичью руку открывали тонкие узоры на челе печи.
Отворилась дверь комнаты, и раненый увидел юную хозяйку. Круглолицая, свежая, точно яблоко, вошла она, взволнованно дыша и опустив ресницы, с горшком и мискою в руках.
Расставив на столе нехитрый ужин, девушка присела на лаву и сказала с напускной «взрослой» серьезностью:
— Ну, здравствуй! Хорошо ли спал, хлопче?
— Хорошо, сестрица. Но проснуться было еще лучше! — ответил казак с таким выражением, что хозяйка залилась яблочным румянцем.
Впрочем, оправилась она быстро, а тогда спросила строже прежнего:
— Как тебя кличут? Я — Настя…
— Славное имя, — улыбнулся раненый. — А я во святом крещении наречен Георгием, но обычно зовусь Еврасем.
— Еврась… — повторила девушка, зачарованно блеснув синими глазами. И тут же вскочила, захлопотала, помогла казаку сесть повыше, поднесла ложку к его губам: — Ешь! Это кулеш не простой, его отец сам варил; в нем коренья особые, мертвого на ноги поставят!
Ерась хлебал послушно, а когда вздумал передохнуть. Настя налила ему грушевого уз вара:
— Ты должен сейчас много есть, как наш пан Щенсный!
— Но он, наверное, очень толстый, твой пан? Если я буду таким, ты меня сразу разлюбишь!..
— А разве я тебя уже полюбила? Какой прыткий!.. — Вдруг Настя, точно испугавшись чего-то нагнулась к Еврасю и зашептала: — Понимаешь, он как раз не толстый! А лопает за десятерых, что я — за сотню, наверное! То есть когда гости у него, или сам обедает у какого шляхтича, так закусит и выпьет наравне со всеми. Но уж коли засядет один в своих покоях да велит подавать… — Не находя слов, Настя зажмурилась и помотала головою. — Нанесут ему всего — целые туши мяса, борща котел, вареников корыто… Он запрется, а через час-другой позвонит в колокольчик. Заходят слуги и видят: посуду будто псы вылизали, мухе нечем поживиться!..
— Ну и что? Самое панское дело — жрать в три глотки! — сквозь хохот еле выговорил Еврась.
Девушка надулась было, но увидев, как от собственного смеха задыхается раненый, снова бросилась кормить его «воскрешающим» кулешом…
Может, и вправду таковы были свойства дедовой стряпни, или, скорее, руки и улыбка кормившей умели лечить — но недели не прошло, как боль поотпустила Еврася, стал он бодро орудовать ложкою, да и сон сделался крепким, разве что мешал порою зуд от заживающих ран. Настя за каждой трапезой потешала и утомляла гостя неумолчным щебетом. Не терпелось ей показать себя чародейкою, наследницей отцова ведовства; но вперемежку с подлинными секретами натуры вдруг сообщала такое, что казак еле удерживался от обидного смеха… Однажды рассказала Настя, что известная трава шалфей, высушенная, истолченная и десять ночей проведшая под луною, в живых червей превращается; этих червей также надо высушить и размельчить, а порошком тем посыпать пятки: тогда любое желание твое исполнится. Другой раз огорошила: подсолнечник, завернутый в шелковую ткань с листьями лавра и зубом медведя и носимый незаметно при себе, обратит всех твоих врагов в лучших друзей… Особенно много знала девушка средств любовной ворожбы, вроде такого: «Найдя змею, прижимают ей шею рогаткою, а затем продевают иглу с ниткою сквозь глаза, говоря: «Змея, змея! Как тебе жалко твоих глаз, так, чтобы такой-то меня любил и жалел». Затем, находясь с любимым, надо продеть незаметно эту нитку в его платье. Пока нитка там, будет он тебя любить»… — «А выпадет нитка, конец любви?! Ну хоть пыль из жупана не выбивай!» — не утерпел тогда, съязвил Еврась, за что и получил подзатыльник.