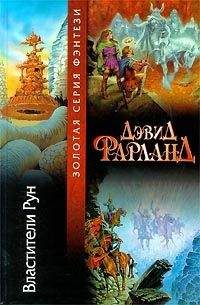Полдороги она уезжала от Леньки и, хотя говорила себе, что уже послезавтра он пойдет в первый класс, что она научила его писать по линейкам, а девочки из ее отряда – складывать до десяти, что через какую-нибудь неделю он влюбится в соседку по парте, Надю или Марусю, что впереди у него целая жизнь, – но все равно что-то ныло и ныло в левом боку, словно туда от тряски переместилась душа… Прижать, обнять и зацеловать – Ленчика, Вячека… Или все-таки Ленчика? Чем ближе была Москва, тем очевидней казался ответ. Когда они высыпали у заводской проходной (лагерь был от завода), Кайгородова среди встречающих, конечно, не оказалось. Дети уже обнимались с родителями, все уже что-то планировали – как провести последний перед первым сентября выходной. И только Лера стояла под мелким, уже осенним дождем и не знала, как ей жить дальше – чем, кем, зачем. И долго, очень долго еще не знала.
А Ксенька знает, и – слава богу.
На все осторожные Лерины “понимаешь, Филипп – он для кого-то, может быть, и хороший, но он не твой человек” (год назад, когда они только решили вместе снимать квартиру, это можно было себе позволить), Ксеня делала постную мордочку: “Ну а ты, ты сама понимаешь, что это в тебе – мамчуковое? чисто мамское: мое – не отдам!”.
А вот и неправда, в хорошие руки – с песнями б отдала. Тогда бы не чувство убытка было, наоборот, прибавления. А если не знаешь, куда деть глаза, когда он тебе из ремонта швейную машинку заносит, без “здрасьте”, без “до свидания” и вдруг, уходя: одну схемку сейчас провернем и отвезем нашу девочку на Бали… И еще подмигивает заговорщицки. Ну? Только этого не хватало! В сообщники он их с Ксенькой берет! Раньше стеснялись хотя бы, а теперь еще и гордятся. Да, Карамзин, да “воруют”… Но доблестью это не было никогда. Все советские годы “застенчивый воришка Альхен”, именно что застенчивый, свидетельствовал о существовании нормы. И вот впервые в стране выросло, можно сказать, целое поколение…
Что-то пиликнуло? Надо же, эсэмэска. Сколько сейчас – семь утра. От кого? Не свадьбу же они отменили… Может, выкуп хотя бы? Так, от Ксени: “Сорри, если разбудила. Тебе сейчас позвонит Вяч. ОК?”
Он в Москве? Я не выгляжу, я не выспалась. И теперь точно уже не засну! Неужели в Москве? Надо что-то ей написать…
Так, еще эсэмэска: “Вяч в Торонто. Фил ждет от вас танец родителей. Заклинаю! Не спорь!”
Боже мой, она нервничает. Я не спорю. Я только ничего не могу понять… Какой танец, если он в Торонто? Но главное – ее успокоить. Я напишу… я уже пишу: “Ксеник, ОК!”
Потому что праздник они делают для других. А у Ксени – одни волнения. И это ужасное платье, в котором она так боится упасть. А Филипп придумал к нему еще и пятиметровый шлейф, который должны за Ксенькой нести две племянницы в розовых платьицах с белыми крыльями за спиной – две его племянницы, вот ведь картинка – сядут Ксене на хвост, чтобы не убежала.
Опять эсэмэс: “Мамсик! Век – твой должник!”.
А сейчас еще пришлет: чмоки-чмоки.
Надо встать и умыться. И накраситься, да. Чтобы голос был выспавшейся, ухоженной женщины. Ухоженной или даже холеной? О чем они могут через столько лет говорить?
Не звонит. Почему? Надо вспомнить хорошее, чтобы разговор хоть как-то сложился. А хорошего было много. Просто с ходу не вспоминается… Один пионерский лагерь сейчас в голове. Как они сидели на заднем сиденье его “москвича”, бессонные и голодные, он жевал пирожки, а потом осторожно перекладывал в ее рот полужидкую кашицу, а она глотала ее не жуя – почему это было счастьем? – а ведь было, и каким! Инфантильным, младенческим? Он питал ее, он переливался в нее – да, почти как у Марины Ивановны: “У меня к тебе наклон уст – к роднику…”.
Они встретились спустя девять лет на углу Столешникова и Петровки, стояли друг против друга и ждали, когда зажжется зеленый. Он узнал, и она узнала. Он расцвел, возмужал, окреп… А она расцвела? Что-то было в избыточной лепке его лица (если лоб, так уж лоб, если губы – смотрите все, и через улицу видно, что губы!), в страстности последней затяжки, в небрежности, с которой он бросил под ноги бычок, одновременно пугавшее и притягивавшее. Захотелось бежать от него и к нему. Но если к нему, то чтобы немедленно втиснуться – переносицей в подбородок, лбом в плечо, а еще можно было носом в ложбинку на шее. Вдруг показалось, что он ее не узнал. Глаза смотрели так ровно, на нее, но словно и сквозь нее… Посередине Петровки Вячек молча взял ее за руку, развернул и повел за собой. Сказал почти между прочим, что завтра собирается в Питер, к матери, и не хочет ли Лера ему составить компанию. А она хотела, конечно. Она год уже как развелась с человеком, похожим на ластик, гнущимся, марким, бесцветным – стиравшим этой бесцветностью все вокруг, хорошее и плохое, а спустя какой-нибудь год и воспоминание о себе…
Похоже, что Ксенька ее судьбу собралась повторить. С детьми ведь это достаточно часто бывает…
А если Вячек спросит сейчас: ты как? Ну вот что она скажет? Ничего он не спросит. Ему до этого – давно никакого дела.
Не звонит. Интересно, в Торонто сейчас день или вечер?
А Лера тем более ни о чем не сможет спросить, ведь любое “как ты?” будет невольно предполагать “как ты – после гибели девочки – живешь? у тебя получается?”. Поэтому надо сразу, как только он позвонит, сказать: а давай придумаем вместе, я должна на свадьбе произнести родительское благословение – дорогие Ксенечка и Филипп! – от нашего с тобой имени…
Да, только про Ксеню и только про свадьбу. А на Филиппа не жаловаться – ни в коем случае. Вячек терпеть не может… то есть не мог, когда при нем говорили о ком-нибудь плохо. Только дети переживают подобные вещи так же болезненно. Но и они годам к четырнадцати вполне адаптируются к существованию негативных суждений, оценок. А у Вячека, будто молочный зуб, это так на всю жизнь и осталось…
Если же он сам спросит ее о Филиппе, то лучше ответить иносказательно. Это еще не поколение ЕГЭ. Но они по сути уже такие же. Вчера звонила Полина Мироновна, ты ее должен помнить, ее муж делал тебе коронки, когда ты приезжал на развод… Она историю в нашей школе преподает. Ну так вот, оказывается, дети теперь выходят к доске и молчат. Полина Мироновна говорит: вопрос такой – СССР накануне Второй мировой войны. А ученик: вы спроси€те, а я отвечу “да” или “нет”. Полина: нет, ты, пожалуйста, порассуждай, я хочу услышать, как ты думаешь. А мальчик: чего тут думать? вы спроси€те, мои проблемы – только “да” или “нет”.
Почему я так сильно волнуюсь? Надо закрыть глаза. Надо расслабиться, вспомнить мгновения самого-самого – чтобы голос окреп и, да, чтобы помолодел. Ну и вот. Они приехали в Питер. Был июль. Ливень лил, как бывает только в кино, когда актеров поливают из шлангов. Вообще-то Вячек ехал к отчиму в Комарово – обсудить с ним версию Якобсона о сходстве языка с генетическим кодом, по образцу которого человек бессознательно сконструировал и язык. Вячек писал в то лето о палиндроме, отчим был крупным биологом, членом-корреспондентом. В квартиру на Марсовом Поле, четырехкомнатную и пустую, они заехали якобы на часок, просохнуть, умыться, побриться, Вячек в поезде не успел. А провели в ней пять суток: нырнули в ее полумрак (плотные шторы из темного бархата казались спасением от жары), проплыли между рифами тяжеловесной старинной мебели, заглянули в камин, похожий на грот, сняли мокрое (мокрым на них было все) и выбросились, как выбрасываются заблудившиеся киты, на высокий берег постели.