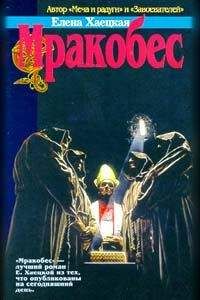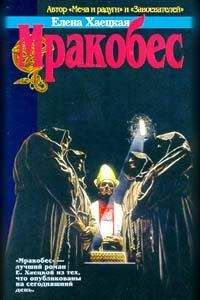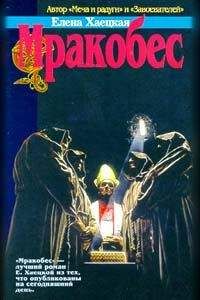В траве ничком лежали два израненных человека. Витвемахер стоял над ними, широко расставив ноги и держа пику наготове. Если хоть один шевельнется, вонзит в затылок.
Ремедий подошел поближе, встал на колени рядом с Варфоломеем и пробормотал молитву. Тем временем умирающие затихли — отмучились. В чаще хрустели ветками отпущенные на свободу лошади.
Один из пленных, маленького роста, щуплый, глухо сказал в землю:
— Дай хоть голову поднять, пиздюк.
Витвемахер слегка коснулся его шеи холодной острой пикой. Пленник выругался и затих.
Все терпеливо ждали, пока Варфоломей закончит молиться. Наконец наместник поднялся на ноги, отер слезы с лица и обратился к своим соратникам:
— Поднимите пленных.
Двое уцелевших солдат были грубо поставлены на ноги. Один из них обвис на руках Верекундия — тяжело был ранен. Ремедий приоткрыл рот, глядя на пленного во все глаза. А тот — лицо хитрое, как у маленького хищника, востренький носик, шустрые глазки — сказал хрипло:
— Сукин ты сын, Гааз…
Это был Шальк.
Варфоломей бегло оглядел его, оценил тяжесть ранений и распорядился:
— Добить.
— Нет, — поспешно встрял Гааз.
Наместник Варфоломей уставился на него широко раскрытыми глазами. Так и рвалось из них на волю безумие.
— Оставь его жить, — повторил Ремедий.
— Он защищал нечистое дело, — гневно произнес Варфоломей. Каждое слово отчеканил, словно монету, и швырнул в лицо Ремедию, динарий за динарием.
— Он покается, — упрямо сказал Ремедий.
— Он все равно умрет, — вмешался Витвемахер, стараясь говорить примирительным тоном. — Слишком тяжело ранен.
— Пусть умрет своей смертью, — совсем тихо сказал Ремедий.
— Ты что, его знаешь?
Ремедий кивнул.
— Он обыгрывал меня в карты… То есть, я хочу сказать, он мой старый товарищ и отменный пушкарь.
Варфоломей продолжал сверлить Ремедия глазами.
— А второй? Он тоже тебе знаком?
Ремедий повернулся ко второму пленнику. Тот поднялся на ноги сам, без посторонней помощи, прислонился к дереву — стоял, откинув голову, улыбался. Глядел не на Ремедия, а на встающее солнце. Могучий человечина, бородища лопатой.
Ремедий побелел и еле вымолвил:
— Надеюсь, что нет.
Но он знал этого человека. Он сам закапывал его в землю.
Мартин, Doppelsoldner, дружок стервозной Эркенбальды. Тот, что умер от ран в нескольких милях от Айзенбаха ровно семь лет тому назад.
— Может быть, просто похож? — спросила вечером Клотильда, с которой Ремедий поделился своим открытием.
Но он покачал головой.
— Нет, я не ошибаюсь. Разве ты не чувствуешь?
Клотильда замерла, приоткрыв рот, прислушалась. Потом покачала головой.
— Не-а. Ничего такого не чувствую…
Шепотом Ремедий спросил ее:
— Клотильда… КУДА МЫ ИДЕМ?
— Балатро знает дорогу, — беспечно отозвалась она.
— Дура! С «Несчастья» ходи, с «Несчастья»! У него «Ладья», потопи его, блядь…
— На тебе «Сдержанность». Жри. Задавись.
— Мало.
— Чего мало?
— «Сдержанности» мало. Мой грех старше твоей добродетели.
— Тогда… «Воздыхание о вечном».
— Отбито, — с сожалением сказала Клотильда.
Ремедий придвинулся к ней ближе, осторожно запустил руку ей за шиворот.
— «Непотребство», — сказал он, выкладывая карту девушке на колени.
Клотильда покусала губку.
— На твое «Непотребство» — «Диана».
— Мухлюешь, — крикнул Шальк, пристально наблюдавший за игрой.
Шалька притащили в лагерь, как куль с мукой, повалили на телегу. Увидев пушкаря — того отделали на славу — Клотильда вскочила, засуетилась. И хоть невиден собой Шальк, а едва очухавшись, принялся ладно молоть языком, чем и проник в чувствительную душу девушки.
На помощь себе Клотильда призвала Иеронимуса, угадав в нем человека знающего. При виде Мракобеса Шальк громко застонал и отвернулся.
— Это мне чудится? — осведомился он.
Иеронимус потрогал пульс у него на шее.
— Не чудится, — сказал он наконец.
Шальк не стесняясь выругался.
— Могу тебя порадовать, — продолжал Иеронимус как ни в чем не бывало.
— Твой друг Бальтазар Фихтеле тоже здесь.
Шальк подскочил, но Иеронимус заставил его лежать смирно.
— Я позову его.
И ушел.
Теперь Шальк лежит в телеге, забинтованный до самых глаз, смотрит, как Клотильда дурит голову Ремедию Гаазу. Парню скоро тридцать, а все такой же дурак.
Не выдержав, Шальк заорал:
— «Диана» младше «Непотребства»! Ну и теленок же ты, Ремедий…
Ремедий покраснел, смешал карты в руке. Невпопад спросил:
— Клотильда… А чем крыть «Любовь Земную»?
— «Любовью Небесной», конечно.
— А почему Любовь Земная — грех?
— Поменьше рассуждай, монашек, — сказала Клотильда. — Сильная карта, так что жаловаться?
— Не на что, — отозвался Ремедий и влепил ей поцелуй.
Наутро полетели первые снежные хлопья. Когда наступила зима? Только что сияла царским блеском осень — и на тебе…
— Не рано ли в этом году? — сказал Ремедий, обращаясь к мокрому холсту телеги.
Из-за холста отозвался сипловатый голос Клотильды:
— Черт знает. А какой нынче день?
Под ногами чавкала грязь. Снег неприятно летел за шиворот. Ремедий мотал головой, лошадь уныло тянула телегу, увязающую едва не до колесных осей.
И увязла.
— Дай помогу, — сказал кто-то над ухом. Рядом с Ремедием второй человек навалился плечом на телегу, вытаскивая ее из ямы. Крупный мужчина, сильный — сразу легче стало тянуть.
— А, — проворчал Ремедий вместо благодарности. Поднял глаза.
Мартин.
Вдвоем выволокли комедиантскую повозку вместе с вертепом, припасами, девицей и раненым пушкарем, поставили на ровное место, и лошадка снова потащила одна. А Мартин с Ремедием пошли бок о бок.
Сперва молчали. Потом Ремедий осторожно спросил:
— Ты и вправду Мартин?
В ответ понесся басовитый хохот.
— Все так же прост Ремедий Гааз, — сказал, наконец, Мартин, отдуваясь.
Ремедий неопределенно пожал плечами.
— Не было смысла меняться.
— Эркенбальду давно видел?
— Ты еще не забыл эту стерву? — Удивление Ремедия было искренним.
— Забудешь ее… Ты ее не пользовал, иначе понял бы, что такую лисицу забыть невозможно. С кем потом еблась, как меня зарыли?
— С Агильбертом…
Мартин плюнул.
— Так и знал, что к капитану перелезет, сучка. А эта, чернохвостая, как ее…
— Хильдегунда.
— Куда делась?
— Сбежала. Выманила денег себе на приданое и только ее и видели.
Мартин выругался и еще раз выругался.
— Сучье племя. Никому из них верить нельзя.
— Мартин, — снова заговорил Ремедий, — ты ведь мертв. Я сам хоронил тебя, помнишь?