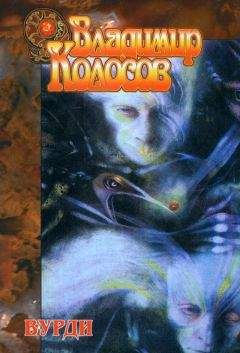Но, казалось, его услышали.
Вовсе не в землянке.
Вовсе не те, к кому это «эй» было обращено.
Что-то странное творилось в лесу. Будто судорога пробежала по несметным его телам. Будто вздох издали его заснеженные губы. Будто в немой мольбе вытянулись его обескровленные долгой зимой руки. Ветер вдруг стих. И скрип стволов стих. И даже вой преследующей нелюдима стаи уже не звучал в голове охотника. Тяжелая истома повисла над лесом. И невпопад с тишиной покачивались вокруг разлапистые еловые лапы…
Лес облизнулся.
Да. Перед ним был человек.
Гвирнус не заметил. Ни этой гнетущей тишины. Ни того, как вдруг жадно потянулись к нему еловые лапы. Усталость и боль сделали свое дело. Вовсе не сердце было в груди человека — кусок льда.
— Эй! — повторил он громче.
Согнулся в три погибели, ибо только так и можно было войти.
Вошел.
Привычно захлопнул дверь — даже сейчас, когда внутри было так же холодно, как и снаружи, он берег уже несуществующее тепло.
В землянке — кромешная тьма, глаза нелюдима не сразу привыкли к ней. Он шарил взглядом вокруг, он задыхался в этой тьме… Торопливо чиркнул кремнем.
Яркий всполох ударил по глазам.
Мгновение — и снова навалилась темнота, но он успел увидеть: совсем рядом, под носом, под земляным потолком висит масляная плошка, сплошь заляпанная брызгами оленьего жира.
Он снова чиркнул кремнем. Раз, другой, третий. Пока жаркая искра намертво не вцепилась в густо смазанный жиром фитилек.
Светильник разгорался медленно. Треща и разбрасывая вокруг горячие капли.
Они лежали рядом. На лежанке.
Сначала нелюдим увидел ее.
Волчицу.
Женщину.
Зовушку.
Потом — его.
— Эй! — глупо пробормотал нелюдим. Он вовсе не удивился. Оба были мертвы.
Ему казалось, он спит.
Можно проснуться.
Это так легко.
Открыть глаза.
И где-то там, наяву…
— Ай-я, — шептал человек.
— Ай-я! — шепотом откликалось лесное эхо.
— Ай-я, ты здесь? Ты жива?
— Открой глаза, глупый. Посмотри. Вот. Вот я. Пойдем, — говорила она и тянула его за собой.
— Куда?
— Не знаю. Не все ли равно?
— Я еще сплю?
— Да, милый. Вставай.
Да, там, наяву… Гвирнус попытался встать, но чьи-то костлявые пальцы тут же опустились на его плечо.
— Лежи. Рано еще.
— Ай-я, ты что? Почему у тебя такие…
— …руки? — сказала Ай-я странно дребезжащим голосом. Вовсе не своим, хотя чьим-то очень знакомым. «Гергаморы? — подумал нелюдим и сам же себе ответил: — Да!»
— Уходи?
— Что ты, Гвир? Это ж я! Я!
«Да. Теперь — ты».
— А старуха? — спросил он.
— Она рядом. Со мной. Вставай, ну же! — Голос Ай-и заставил Гвирнуса сбросить руку старухи. — Помоги! — Столько в нем было растерянности, боли, чего-то еще — щемящего, нежного и одновременно испуганного…
— Ай-я!
Нелюдим вдруг подумал, как давно он не чувствовал ее острых упругих грудей, ее мягких теплых губ…
— Ай-я? — Он должен был открыть глаза, встать, подойти к ее маленькому беззащитному тельцу. Обнять его… Но он лишь глупо улыбался, позабыв о вурди, стае и даже сидящей подле старухе, которая, казалось нелюдиму, хитро улыбалась, покачивала седой головой и тихо приговаривала, обращаясь невесть к кому:
— Эх, деточка, все будет хорошо…
— Эй! — Он наклонился к лежанке, коснулся рукой мертвого тела Зовушки. Ее кожа поблескивала в тусклом свете масляной плошки. Она была сплошь покрыта инеем. Будто поросла невинным детским пушком. Он осторожно провел рукой по ее впалому животу. Ледяной. Взглянул на лицо женщины — все еще красивое, но испещренное мелкими, но уже набирающими силу ручьями морщин. Сейчас она казалась ему почти старухой. Возле губ маленькая запекшаяся струйка крови.
— Ты — вурди, — прошептал Гвирнус, подбираясь одеревеневшими от холода пальцами к двум высоким запорошенным инеем холмам. Вот он. Колышек. В груди.
Да.
Он глупо улыбался.
— Вытащи его, — попросила где-то там, наяву, живая и невредимая Ай-я.
— Кто это сделал?
— А ты не помнишь? — В ее голосе послышалась легкая укоризна.
— Не помню, — честно признался нелюдим, вдруг испугавшись того, что на самом деле помнит, помнит все…
— Ты был очень зол, — безжалостно сказала Ай-я.
— Не надо…
— Их было много. Волков… Тебе понравилось?
— Нет!
— А потом ты вернулся к землянке…
— Нет!
— А потом…
Гвирнус вцепился в торчащий из груди женщины колышек обеими руками. Его качало. Он помнил.
— Выдерни его.
— А отец… Я же не мог…
— Мог. Они спали, помнишь?
— Да.
— Ты их разбудил. Ты был страшен. Ты был совсем не похож на человека, Гвир.
— Откуда ты знаешь?
— Точно так же ты убил и меня.
— Ты была вурди.
— Ну и что? Я всегда была вурди. Разве я была плохой женой, Гвир?
— А потом? Что было потом?
— Может быть, ты расскажешь об этом сам?
— Я был с колышком?
— Да. Ты выломал его по дороге и обтесал на бегу.
— Я бросился на нее?
— Да. И кричал при этом, что она оборотень, вурди, что ненавидишь их, что там, в лесу, стая, волки. Вурди. Что они бросились на тебя…
— А отец?
— Он встал между вами.
— Зачем? Он же сам, сам показал мне…
— Керка?
— Да.
— Ну и что? Пускай он так же, как ты, ненавидел их. Но есть кое-что посильней ненависти, Гвир.
— Я знаю.
— Я верю, Гвир. Хотя ты и убил меня.
— Ножом, Ай-я, ножом!
Он вдруг очнулся. Или, наоборот, снова провалился в кошмарный сон?
Он все еще стоял держась за колышек, будто в нем и только в нем таилось спасение от того кошмара, в который превратилась его жизнь…
«Что я наделал?» — подумал нелюдим, но в груди его вдруг затеплилась надежда.