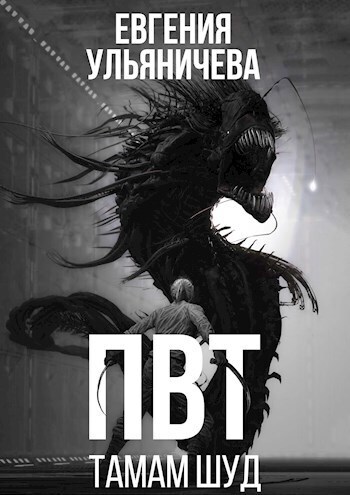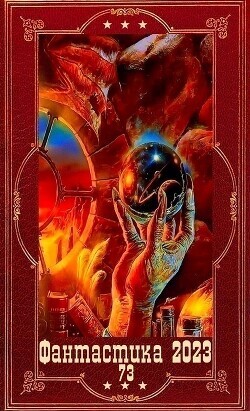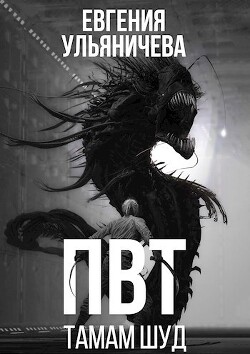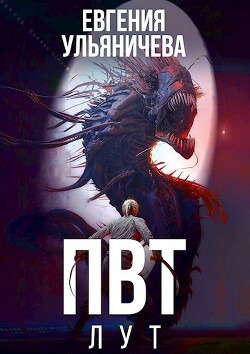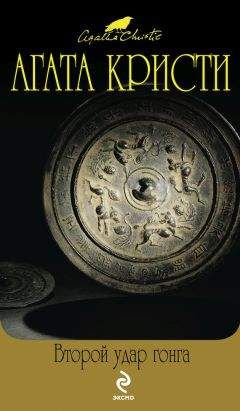себя перебарывал.
— Куда тварей-то дел? — Спросил для разгона. — Урыл, не?
— Освободил. Что им в неволе томиться.
Второй поднял глаза — пустые. Ничего в них не было, ни жизни, ни злости.
Ни золота Манучера.
— Я знаю, что он танцевал.
Выпь сжал зубы, опустил голову и руки. Скребок сжал до хруста.
— Мне сказали. Воронку. — Проговорил трудно, словно горло его вновь держали фильтры. — После нее не возвращаются.
Тут-то Гаеру и солгать бы, и сплясать бы на костях, а лучше — махнуть Двухвосткой. Что-то подсказывало: Выпь не стал бы защищаться. С радостью бы подох.
Арматор выдохнул, закатил глаза.
Ох, Молли, Лин, это ради вас. Это единственный раз.
— Нет. Кокон. Слышишь? Голову ставлю, да что там — головку! Это был Кокон. Старик Витрувий, до того, как спятил, был уверен, что подобный танец существует, но исполнить его не может ни один, ни множество… Но Юга, разве не носил он шерл?! Он один был — и он был множество! Он станцевал его, не?! А Кокон — это уход. Метаморфоза, изменение. Нырок в глубину. И, значит, он вынырнет. Вот только где, я хрен знает…
Выпь поднял голову и Гаер увидел, как глаза его наполняются светом. Надеждой. Жизнью.
Определенно, никогда еще слова арматора, даже самые грозные, не имели такого эффекта.
— Я знаю, — ответил Второй сипло.
Эпилог
Выпь вернулся с прозаром.
Эдр с заключенной бабочкой — вот, что осталось ему на память. Карта всего.
Сиаль встретил его так, словно не уходил. Как если бы всегда был здесь — в царстве камня и Провалов.
Провалов.
Локуста тихо скрипела за спиной. Волновалась.
— Слушай, Лут. Я спас тебя. Мы — спасли. Ты должен… Пожалуйста.
Игрушка его сорвалась с рук, покатилась и канула в воду Провала. Выпь встал на краю. Горло его было пусто, и руки — пусты; в груди камнем лежало сердце.
Плеснуло.
Выпь проводил глазами откатившийся под ноги эдр.
Чувствуя, как сеть трещин охватывает камень за ребрами, перевел взгляд.
Такие черные волосы. Такая белая вода.