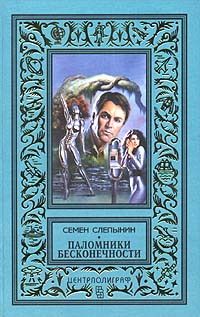— Видимость невидимого! — воскликнул Старпом. — Странно, я где-то уже слышал эти слова. Но где он, этот невидимый конец? Где великий смысл?
— Торопыга, — рассмеялся старец. — Я вот веками странствую, ищу и не нахожу. Случилось даже, притаившись невидимкой, как-то послушать ученых. Смехота! Шумят, спорят, перебивают друг друга. У каждого свое и непонятное. Нет, проще и понятнее народ с его думами и церквушками, а последнее время я похаживаю по святым местам. Может быть, там найду хоть крохотный намек, хоть обломочек правды?
— Однако ты, дед, преинтересный тип, — улыбнулся Старпом. — Вот что, дедуля. Собирай свою котомку и пойдем по святым местам. Ты Бога искать — невидимый конец, а я дьявола — конец видимый. Но и он прячется, негодяй. Прячется. — Старпом оживился, вместе с дедом ступил на дорогу, но вернулся и сел на прежнее место. — Иди, дед, один. Надумаю — догоню. Не поймешь ты меня. Я и сам не пойму: Бог во мне сидит или дьявол?
Старец постоял немного, с грустью посмотрел на Старпома, потом повернулся и пошел, вздымая пыль. Удивительная все-таки у него дорога. Над ней ни солнца, ни звезд, ни луны — одна бездонная пустота. И в то же время лучи, палящие и яркие солнечные лучи, словно ниоткуда, падали на иссушенную колею, на холмы, где искрились травы и шелестели листвой кусты. Я расслышал даже звон кузнечиков, упоенно славящих полуденный зной. Да и дед — отчаяннейший жизнелюб, и ему по душе жара. Мила она ему, видимо, по затерявшейся в дали времен вещественной жизни. На краю дороги протекал ручеек с чистой студеной водой. Старец присел, вытер со лба пот, набрал в котелок воды, с видимым удовольствием попил и снова не спеша потопал дальше. За одним из поворотов, за холмиком с одиноким кустом скрылся, оставив свою мечту-дорогу Старпому: надумает — догонит. А тот поник головой и снова горько задумался.
Я покинул великого мученика и горемыку и вернулся на планету несколько успокоенный. Нет, ни один человек, ни один сочинитель не смог бы придумать такие вселенские страдания — мои и Старпома. Не легенды мы с ним, не выдумка.
А кто? И опять мучительный вопрос этот зашевелился во мне, заерзал с нестерпимой силой. Да, я не камень Спинозы, не выдумка. Это ясно. Теперь меня волновало другое, и главное: что такое человек вообще, его телесное и бестелесное состояние, какое место он занимает в мире, о котором, кстати, тоже нельзя сказать с полной уверенностью — есть он или нет?
Сыграв в утренних туманах на свирели, я на весь день, подобно Заратустре, уходил в полюбившиеся мне горы. Но не Заратустрой я себя чувствовал, не уверенным в себе сверхчеловеком, а существом жалким, пришибленным грудой сомнений. Побродив по снежным вершинам, я спускался чуть ниже, в альпийские луга, садился на камень и задумывался о природе всего сущего, о себе…
Предположим, — хотя это и невероятно, ведь мое вечное «Я» есть и будет всегда, — но все же предположим, что мое бестелесное состояние — фикция, мираж. Во всяком случае, нечто производное, вторичное по отношению к телесному, грубо материальному. Тогда что такое человек — это первичное и земное? Вот и сижу сейчас на камне и думаю об этом, думаю…
Хорошо мудрецам, не знавшим никаких сомнений, особенно так называемым последовательным материалистам вроде Великого Вычислителя. Они уверены, что человек — это просто кожаный мешок, напичканный всяческими реактивами. Человек — химический фокус. И все! И не надо, дескать, мучаться, искать какой-то великий смысл. Есть только один конец палки — великая бессмыслица. И в самом деле, какая может идти речь о Боге, о бессмертном духе, если внутренний мир человека, его высокие мысли и его светозарные мечты — всего лишь химические реакции, которые могут и в пробирке получаться.
Один из таких философов, живший на этой планете (кажется, Ипполит Тэн), так и писал: «Пороки и добродетель — такие же продукты, как купорос и сахар». Ну как не позавидуешь такому мудрецу или тургеневскому Базарову, который проводил на лягушках свои нехитрые опыты. Дергает лапкой лягушка — вот так, дескать, и человек реагирует на раздражения внешнего мира своими «лапками» — научными теориями, философскими доктринами, бессмертными творениями искусства. До чего все просто. Завидно!
Завидую я и солдафонам с марксистско-ленинским казарменным мышлением. Им тоже все ясно: Бога нет, а есть рефлексы…
Мне же, к сожалению, ничего не ясно. Наступает вечер, зажигаются звезды. И я, подняв взор к небу, вопрошаю не Бога, — его, вероятно, и в самом деле нет, — я вопрошаю две реальные вещи, которые, по выражению Канта и моего капитана, «наполняют душу удивлением и благоговением — звездное небо надо мной и нравственный закон во мне».
Так что же такое нравственный и духовный мир во мне? Комбинация купороса и сахара? Кучка гниющего, химически активного навоза?
Ипполит Тэн не одинок. Вспомнилось еще одно направление философской мысли, широко распространенное во Вселенной, — очень уж полюбилось оно разного рода Великим Вычислителям, будь они в образе жабы или двуногого существа. Из моих далеких и ушедших жизней смутно помню, что на одной планетке такого мудреца звали Зелезуаци… Или нет! Желедруазо… Тьфу, какое длинное, корявое и трудное имя. На планете, на которой я сейчас нахожусь, подобного же мудреца звали куда проще. Чуть ли не Фрида… Вспомнил: Фрейд! Он был уверен, что внутренний мир человека — это скопище, месиво первобытных разрушительных инстинктов: агрессивности, жажды наслаждений и в первую очередь сексуальных устремлений, похоти. Это, по его мнению, великое бессознательное «Оно» и высматривает, выискивает, как бы схитрить, переключить (по терминологии Фрейда — сублимировать) похоть в общественно узаконенные формы. Мысли ученых, творения поэтов, композиторов, вообще вся культура — это, дескать, и есть сублимация, вытеснение похоти и другого дерьма, это что-то вроде прекрасного цветка, выросшего на куче навоза. И невдомек таким мудрецам: цветок этот радует глаз и благоухает лишь потому, что питается не только соками навоза, но и ветрами полей, солнечным светом, космическими лучами…
Осенило! Вот оно — поистине космическое опровержение фрейдизма. Правда, кое в чем с фрейдизмом надо согласиться. Вещественный, земной человек создан из земного праха и несет в себе груз мезозойских, палеозойских и более поздних пластов психики. Но Земля — лишь крохотная частица Вселенной, и происхождение ее, как и человека, в основном оттуда. Человек не только земная пылинка, но и космическая безбрежность. Взять, к примеру, мои земные картины с их метафизической печалью или чарующие песни свирели — мои и того парнишки пастуха. Что это? Сублимация жадности к наслаждениям? Голоса земного навоза? Какая чушь! Это голоса забытых нами прежних бесконечных жизней, это звучание космических струн души, зовы и тревоги Вселенной. Человек не менее бесконечен, чем Вселенная.