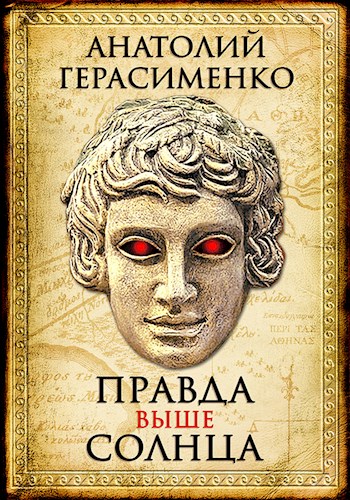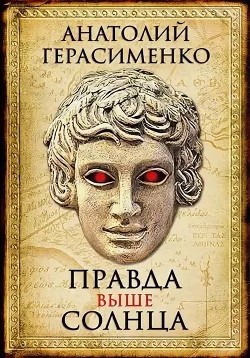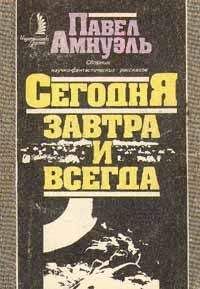от Вареума. Устал от его народа, порочного, шумного, кровожадного, поклонявшегося жестокому богу. Устал от изнуряющей духоты, от жёлтой пыли, которая денно и нощно витала в воздухе, проникала под одежду, пятнала кожу, скрипела на зубах. Устал от того, что все вокруг хотят его убить. И он тосковал по дому. Аполлон милосердный, как же он тосковал! Акрион закрыл глаза, чтобы не видеть убогой комнатки с заплёванными стенами. Хотелось на миг вызвать в памяти солнечный тихий дворик в Афинах. Самый лучший, самый родной дворик, квадратный перистиль отчего дома…
У него получилось.
Распахнулось над головой афинское небо. Повеяло оливковым дымом, сытным духом готовых лепёшек, крепким запахом курятника. Вот солнце встаёт над домами, подмигивает из-за Акрополя, играет бликами на шлеме Афины, на луке Аполлона. Вот чайка замерла в небесах, неподвижно раскинув крылья, сверкая белым животом. Шелестит под сонным ветерком куст рододендрона, тявкает дворовый пёс. Из глубины дома слышен голос Федры. Такис пришёл с рынка, хромает через двор с корзинкой, полной овощей. Откуда-то сверху тенькает кифара: Киликий, по своему обычаю, сидит на крыше, наигрывает мелодии, пока жара не погонит вниз, в андрон, к Сократовым свиткам…
Но тут же возник перед глазами другой дом, другой перистиль. Строгие колонны, мелкий песок, солнце глядит сквозь листву деревьев на Царском холме. Мать – настоящая мать, Семела – ведёт Акриона за руку к алтарю Гестии. Они преклоняют колени, Семела сыплет на курящийся алтарь прозрачные, как слёзы, зёрна ладана. Негромко запевает:
Средь святых святую владычицу Гестию восславим!
О ты, Олимпа и земли царица,
ты владеешь срединным лавром пифийским,
Святыми плясками правишь ты в храме высоковратном,
Радуясь в сердце пророчествам и златой Аполлона кифаре,
Когда бог, веселясь, на лире на семизвучной бряцая,
Гимнами почитает бессмертных!
Маленький Акрион подтягивает, как умеет, оканчивает вместе с матерью строчки. Струится, омывая статую Гестии, ладанная дымка. Солнце поднимается выше, молитва замирает на устах Семелы, она поднимает голову, вслушивается, будто бы ждёт чего-то. И ожидание её вознаграждается. Слышатся тяжёлые шаги, знакомые шаги. Мать вздрагивает и жмурится, невольно вжимая голову в плечи. Акрион оборачивается, чтобы встретить взгляд отца…
На улице вновь кто-то закричал – хриплым, безобразным голосом.
«Проклятый город, – со злостью подумал Акрион. – Проклятые тиррены. Ни часа в тишине».
Побеспокоенный, звучно всхрапнул Кадмил, брыкнул нетерпеливо ногой, перевернулся набок и засопел под нос, досматривая, верно, какой-нибудь небывалый сон. Что, интересно, может сниться богу? Уж наверняка не вампирши и не бледные цветы загробного мира. Быть может, он видит во сне родителей? Величавого Зевса, кроткую Майю? Боялась ли она Зевса? Вряд ли; скорей уж, опасалась мести ревнивицы-Геры.
Меттей в своём углу тоже завозился, простонал, отмахнулся от дурного сновидения. Акрион напрягся, готовый в случае чего дать отпор – всё-таки ланиста был бойцом, пусть старым, пусть пленённым и сломленным, но всё ещё опасным. Однако Меттей, как и Кадмил, не проснулся. Акрион вытянул затекшие ноги, поправил меч на коленях и тихо вздохнул.
О, Афины. О, Федра, о, Киликий. Хотелось прямо сейчас бежать в порт, наняться гребцом на первый попавшийся лемб и, не щадя спины, грести несколько недель кряду, пока судно не придёт в Пирей.
Но оставалось ещё одно важное дело. Необходимое.
И Акрион в сотый раз принялся обдумывать план.
Темнота выцвела, уступила место рассветному полумраку. Улица наполнилась суетливым городским шумом. Солнечный луч протиснулся сквозь окошко под потолком, мазнул по стене и угас – должно быть, утро было облачным. Внизу, на кухне зазвенел, упав, медный котёл, послышалась брань. В соседней комнате кто-то тихо стонал, и было неясно, от боли или от похоти.
Акрион думал. Искал слабые стороны. Подгадывал, что могло пойти не так. Выходило неутешительно: план весь состоял из слабых сторон, и всё подряд могло пойти не так. Начиная с той страшной ночи, когда погиб Ликандр, Акриону не раз приходилось рисковать. Он пришёл во дворец к матери-колдунье. Несколько раз пересёк море на утлой лодке. Притворился вражеским лазутчиком перед лидийцами. Сдался на милость Горгия, чтобы переступить дворцовый порог в последней попытке вернуть материнскую любовь. Пробрался в храм Артемиды и украл священный курос. Летел по небу, осыпаемый стрелами. Сражался на арене против целой команды воинов.
Но тогда у него не было выбора…
На кровати зашевелился Кадмил. Потянулся; негромко, раздражённо застонал. Какое-то время он лежал, вяло растирая шею и мерно, по очереди сгибая ноги в коленях. Потом зевнул, слез с ложа и поплёлся вон из комнаты. Босые подошвы шлёпали по грязному полу.
Меттей тоже пробудился. Повозившись, сел в своём углу и принялся глядеть в стену. Он весь прошлый день просидел так и, похоже, не собирался говорить ни слова. Что ж, его право.
Акрион снова погрузился в размышления.
…Да, тогда у него не было выбора. А сейчас он мог просто сбежать в Элладу, чтобы там начать всё заново. Снова слушаться Кадмила, снова идти туда, куда направят, делать то, что скажут. Царский сын. Царь Эллады. Да. Ничего зазорного, конечно, нет в том, чтобы повиноваться богам. Но только не пора ли начать думать самому? И делать что-то самому.
«Сколько уже крови пролито, – мелькнула мысль. – Не навредить бы ещё сверх того». Акрион покачал головой. Верно; пришлось совершить много зла. Он умертвил отца. Стал виною смерти матери – как ни крути, это так. Загубил немало других людей: в Эфесе, в Афинах, здесь, в Вареуме. Но притом всякий раз исполнял чужую волю – волю Семелы, волю Аполлона… да хоть волю эдиторов в тирренском театре смерти. Так, может, хватит действовать по указке? Может, пришло время брать жизнь в собственные руки?
Разве не сказал Кадмил, что богам угодно, когда люди сами совершают выбор? Не зря ведь Аполлон преподал Акриону этот