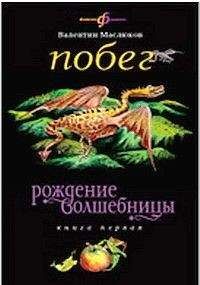Была та полная, священная тишина, когда всякое лишнее слово уже кощунство.
— Приступаем к последнему взвешиванию, — объявил председатель.
Беспокойно шевельнулся Оман… встал, когда Золотинка села. И, видно, не просто это ему далось — подняться. Поэт — способен был оценить гордую красоту молчания, оправдатель — сомневался. И сказывалось к тому же потаенное недовольство собственным неудовлетворительным выступлением.
— Нужно добавить, — начал он, приготавливаясь уже воодушевиться. — Я хотел бы объяснить собранию неразговорчивость подсудимой…
— Оправдатель Оман, я не давал вам слова. Судебные прения закончены, — резко, с раздражением оборвал его председатель.
Оман не понял, не хотел понимать. Золотинка, хоть и встрепенулась в надежде услышать разгадку собственного молчания, отчетливо, до прямого знания чувствовала общее неприятие, какое вызывала попытка оправдателя поправить подсудимую.
— Мы не смеем выносить приговор…
— Лишаю вас слова! — звякнул в колокол председатель.
— …Без точного представления…
— Лишаю слова! — колокол надрывно зазвонил, заглушая обоих.
— Речь идет, черт побери, о жизни! О смерти! Я буду говорить! Сколько считаю нужным! — крикливо возмущался Оман, приметив за спиной стражников, которые оглядывались на председателя, не решаясь действовать.
Может статься, был бы лучший исход для Омана — чтоб его увели силой. Даже унесли на руках, в оковах. Это был бы красивый выход из того положения, в которое он сам себя поставил. Но, видно, у этого даровитого пигалика ничего не получилось толком — всегда не хватало ему самой малости, чтобы дойти до конца пути.
— Я подчиняюсь насилию, — сказал он вдруг среди выкриков, хотя о насилии можно было говорить пока только в предположительном смысле. Сложил руки на груди, замолчал — как бы с вызовом. А потом, постояв, объявил: — Ухожу, оставляя вас наедине с вашей собственной совестью.
Излишнее нагромождение слов: «с вашей, собственной», происходило, по видимости, из потаенного убеждения, что сам Оман представляет собой как бы внешнюю, «не собственную» совесть пигаликов. Он внушительно двинулся вон мимо расступившихся стражников.
Это было невыносимо. Золотинка потупилась, обхватив лоб.
Так она и сидела, не поднимая головы, когда судьи объявляли взвешивание. Зал притих, можно было уловить слабый шелест посыпавшегося песка.
Когда же решилась глянуть, все было кончено: огни волшебников горели, но белый песок иссяк. Почудилось на миг, что он еще и не начинал сыпаться, потому что черная чаша обвинения застыла внизу… Но нет, все было кончено.
Всё.
Напрасно ждали чего-то волшебники и томился притихший, словно бы удивленный зал. Напрасно, забывшись, уставил ввысь взгляд председатель и его товарищи.
Всё.
Суд удалился для составления приговора, а Золотинка осталась на арене, где и просидела около двух часов, комкая в ладонях сплющенное и скатанное золото, что было прежде ее собственными состриженными с затылка волосами.
Потом все встали, и председатель принялся читать пространный и многословный приговор, в котором до последнего нельзя было понять, куда же клонится дело, к чему идет.
— …Приговаривается к высшей мере наказания — смертной казни, путем замуровывания в стене, — продолжал председатель, почти не дрогнув голосом. Казалось, напротив, он проговорил эти слова особенно ровно и бесстрастно. Для того и читал так долго, чтобы выучится этой интонации, ничего решительно не выражающей. — Причем оное замуровывание будет производиться четырьмя мастерами одновременно…
Одно-овре-еменно — протянул председатель и тут явственно ослабел. Вздохнул так тяжко и глубоко, словно бы давно уже не имел случая перевести дух. Или же — что более вероятно — малодушно возомнил прежде срока, что работа его окончена. Последнее подтверждалось еще и тем, что, вздохнувши, этот строгий, несколько похожий издали в своем черно-желтом одеянии на бородатую осу пигалик замолк, уставив нос в пачку подрагивающих в руках листов. И тем сильнее поразил он притихший зал, что обнаружил в своей бумаге некое важное продолжение. Он довел его до общего сведения окрепшим, но все еще неровным, как после болезни, голосом:
— Оную кладку совершить на известковом растворе в полтора кирпича. Причем объем камеры, назначенной для умерщвления сказанной волшебницы Золотинки, должен составлять не менее четырех кубических аршин по слованскому счету. Для уменьшения ненужных… — председатель запнулся, как бы не доверяя себе, и повторил еще раз: —…Ненужных страданий осужденная получит один кувшин воды в полведра и фунт суха-аре-ей… — снова зевнул он, задыхаясь. И смолк опять, спрятав лицо в бумагах, словно пытался отыскать прыгающие строки носом. Ничего не нащупал, не отыскал… Молча сунул бумагу товарищу, который оказался удачливей, то есть нашел все-таки место, утвердил на нем палец и продолжил:
— Народный приговор окончательный и обжалованию не подлежит. — Это и было все, для чего призывался товарищ.
Больше никто ни единого слова не добавил. Ничего более вразумительного, чем вся эта оглушающая дребедень, которая называлась приговором, ничего просто хотя бы по-человечески понятного, обыденного сказано не было. Вроде того, что «закрываем наш суд, спасибо за участие» или просто «до свидания». «Можете расходиться», наконец. Ничего такого, что волей-неволей говорят люди, закончив большое общее дело. Судья передал бумаги председателю, и все они один за другим в чинном порядке вышли, оставив двадцатитысячное собрание в столбняке.
Никто не шевельнулся. Словно бы собрание все еще хранило надежду услышать «до свидания». Что-нибудь в этом роде, что-нибудь ободряющее.
А Золотинка стояла посреди арены. Бессмысленно она стояла, но бессмысленно было идти, сидеть, лежать — все одно.
Мало-помалу слуха ее достигли подвывающие звуки, столь явственно напоминающие плач, что Золотинка, удивляясь, обвела глазами усеянные народом склоны: кто бы это мог плакать, когда она, Золотинка, застыла.
Определенно, различались рыдания. Более того, они усиливались. И рев этот множился, подхваченный в нескольких местах. Что-то вроде слезного, наполненного дождем ветра прошелестело по залу — и непогода разразилась, собрание заревело взахлеб, рыдало и выло. Озадаченно оглядывая нижние ярусы зала, Золотинка не видела ни спокойного лица, ни ясных глаз — согнутые плечи, скомканные платочки, закушенные губы. Слезное поветрие распространялось, как зараза, как мор. Невозможно было сохранить самообладание среди столь жалостливых завываний; болезненные порывы захватили и стражников с их бердышами и самострелами. Только Золотинка и оставалась безучастной к этому их несчастью.