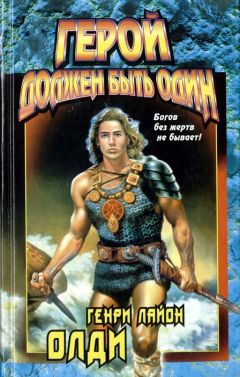И в беспощадных глазах Аполлона ясно читался приговор.
– Мой брат Гермий сказал мне, что ты любишь приносить человеческие жертвы Гераклу, – сухо добавил бог, и сверкающая стрела легла на тетиву лука. – Что ж… Внемлите, Крониды на Олимпе и Павшие в Тартаре: я, Феб-Аполлон, Олимпиец, приношу басилея Эврита, своего ученика, Одержимого, в жертву сыну Зевса Гераклу! Да будет так!
Огненный луч сорвался с тетивы.
…Нет, Алкид не видел всего этого. Просто ветер вдруг рассмеялся ему в лицо, запорошив глаза пылью, пахнущей заплесневелой сыростью земляного погреба; просто безумие почти сорокалетнего Геракла было иным, чем прошлое безумие Алкида из Фив; горящий светлым пламенем взгляд гневного бога на миг возник из ничего, заслонив собой зубчатые башни Тиринфа, и еле различимые слова «Я, Феб-Аполлон, Олимпиец…» слились в золотую стрелу, ринувшуюся на Алкида – ничего не понимая, он попятился, пытаясь схватить руками вспышку смерти, сослепу налетел на что-то мягкое, услышал глухой вскрик и рухнул в бездну, гудящую медным гулом…
Тень Эврита Ойхаллийского стояла у перил и смотрела в пропасть – туда, где на камнях жалко скорчилось исковерканное тело басилея.
– Вот, значит, как это бывает… – тихо сказала тень и во второй раз обернулась к богу.
– Убирайся в Аид! – презрительно усмехнулся Аполлон. – Подать навлон[56] для Харона?
– В Аид? Ты глуп, бог, или поторопился; или и то, и другое сразу. Неужели твой брат Гермий не сказал тебе, что жертвы Гераклу не идут в Аид; во всяком случае, добровольно? Да, теперь я вижу – не сказал… забыл. Иначе ты, зная, что имеешь дело с Одержимым, трижды подумал бы, прежде чем принести его в жертву Гераклу!
Бог шагнул к тени.
– Ты пойдешь туда, куда прикажу я! Или ты в состоянии отыскать место, где тебя не достанет рука Аполлона?!
– Нет, ты все-таки глуп, – тень повела призрачной ладонью, открывая Дромос; и стеклянистые нити его отливали черным. – Хорошо, тогда иди за мной, грозный и торопливый брат Гермия-Психопомпа!..
Аполлон кинулся к Дромосу, где только что исчезла тень Одержимого – и отшатнулся.
На той стороне были Флегры.
Пожарища.
Колыбель Гигантов.
…Нет, Алкид не видел этого. Дрожа всем телом, он стоял на краю стены, медленно приходя в себя – вот сейчас упадет еще одна капля в водяной клепсидре, еще одна песчинка в песочных часах, на волосок удлинятся тени, и Алкид опустит взгляд.
Он неумолимо приближается, тот миг, когда Геракл увидит разбившегося Ифита-лучника; увидит изломанный труп у подножия тиринфской стены.
И вспомнит родившийся из безумия звенящий голос:
– Я, Феб-Аполлон, Олимпиец…
Завтра вернувшиеся в Тиринф Иолай и Ификл узнают, что Геракл, убив во время припадка бывшего учителя, уехал в Дельфы.
15
Он гнал колесницу на север.
Грохочут колеса.
Скоро Дельфы.
Скоро.
Он гнал колесницу, горяча храпящих коней, а следом за ним тысячекрылой голосистой стаей летела молва.
– Убил учителя и друга?! – ужасались мессенцы.
– Небось, украденных у Эврита табунов отдавать не захотел! – прикидывали элидяне.
– Какие табуны?! – возмущались арголидцы. – О чем вы?! Это же великий Геракл, Истребитель чудовищ! Его же на Эвбее несправедливо обидели!
– Чудовища чудовищами, – не сдавались упрямые элидяне, тщательней приглядывая за собственными стадами, – обида обидой, а табуны, извините, табунами! Одно другому не мешает. Небось, заманил беднягу Ифита на стену – глянь, мол, не ваши ли кони пасутся? – а там и спихнул вниз! Очень даже запросто!
– Ревнивая Гера, за что караешь? – шептали аркадские и лаконские девушки, жаркими ночами мечтая о Геракле.
– Безумец, – пожимали плечами в Ахайе.
– Герой! – откликались в Беотии.
– Величайший… – и те, и другие.
Посмеивалась на все Эгейское море крепкостенная Троя.
Молчали Ойхаллия и Пилос.
Впрочем, нет – Пилос уже не молчал. И ванакт Нелей Пилосский врал направо и налево о том, что возвращаясь с Эвбеи домой, он повстречал Геракла, который якобы просил его, благочестивого Нелея, очистить невольного убийцу от скверны – но Нелей, как кладезь благочестия и осторожности, отказал Гераклу в очищении, ссылаясь на давнюю дружбу с Эвритом, отцом убитого.
Что вы говорите?
Ах да, конечно – с покойным отцом убитого… теперь-то ясно, почему так вздорожала соль, поставляемая на материк с соляных варниц Эвбеи!..
И во главе стоустых полчищ Геракл ворвался в священные Дельфы.
– Омой руки в Кастальском источнике! – сурово сказали жрецы, преградив путь герою, когда тот шагал по мощеной дороге мимо скалистой восточной стены. – И вознеси хвалу лучезарному Аполлону!
– Нимфа Касталия превратилась в Кастальский ключ, спасаясь от домогательств вашего бога, – был ответ. – Не омою рук в слезах несчастной! Прочь с дороги!
– Надень лавровый венок! – строго приказали жрицы, встав перед Гераклом у входа в храм.
– Нимфа Дафна стала лавром, лишь бы не уступить похотливому Фебу, – был ответ. – Не одену венка из волос несчастной! Посторонитесь!
– Нет тебе очищения! – возгласила разгневанная пифия, и грозно дрогнул туман над расщелиной скалы. – Нет и не будет!
– Аполлон убил юного Гиацинта, сына басилея Амикла, – был ответ. – Кто очистил от скверны твоего бога, женщина?!
– В этом храме, безумец, тебе прорицать не будут!
– Я сам себе храм и прорицатель, – был ответ. – Уйди, женщина, и не стой между мной и богом!
И Геракл кощунственно схватил золотой треножник, на который садилась пифия во время пророчеств.
– Аполлон! Где ты, Олимпиец?! – рев этот еще долго будет преследовать пифию, в страхе бежавшую из сокровенной части храма. – Явись и ответь Гераклу!
Ответом была огненная стрела, посланная с той стороны расщелины.
Треножник описал сверкающую дугу, золото земли столкнулось с небесным золотом, пламя с пламенем, и – только искры разметало по храму.
…Никто и никогда не узнает правды о том, как схватились между собой безумный Геракл и разъяренный Аполлон; смертный и бессмертный. Только шепнут в Дельфах, повторят от Эпира до Аттики, и эхом отзовется на Пелопоннесе: сила сошлась с силой, вынудив Зевса-Тучегонителя метнуть молнию, дабы разъединить борцов и не допустить гибели сына… а вот которого из сыновей – не шепнут о том в Дельфах, не повторят от Эпира до Аттики, и промолчит благоразумное пелопоннесское эхо.
Да еще услышит краем уха старая жрица, некогда разрешившая безымянному юродивому остаться на территории священного округа, как скажет усталый Геракл, остановившись у только что въехавшей в ворота колесницы: