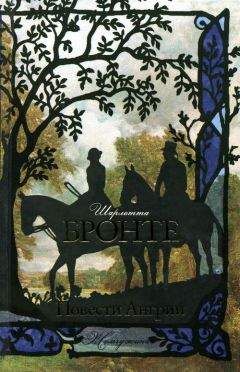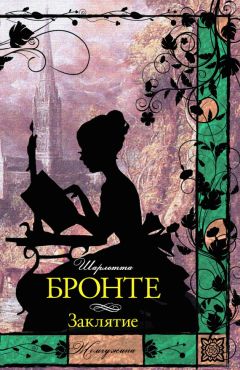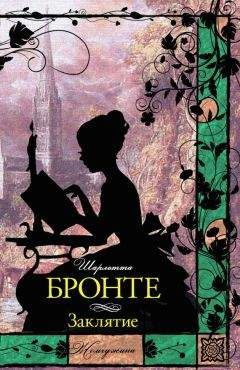— Не очень-то вежливо, сэр. Как ваше имя?
— Джон Горец, — отвечает джентльмен голосом таким низким, что в комнате дрожит мебель. — Джон Горец. Я пришел на ваш зов. Чего вам надо?
— Ваш слуга, мистер Сондерсон, — говорю я. — Прошу прощенья! Мне следовало узнать вас сразу, но с последней нашей встречи вы так изменились — всегдашней угрюмости как не бывало, вы так и лучитесь добротой. Как миссис Сондерсон, как ваши почтеннейшие родители и юная надежда Сондерсонов?
— Неплохо, спасибо. Я бы угостился табачком, если у вас есть, а то мой запас весь вышел. — С этими словами мистер Сондерсон протянул золотую табакерку, которая с моей помощью быстро наполнилась черным раппи.[68] Затем мы продолжили разговор.
— Какие новости в ваших краях? — был мой следующий вопрос.
— Да никаких особенно, — прозвучал ответ. — Только что с началом марта ангрийцы ошалели еще больше.
— Неужто они до сих пор сражаются?
— Сражаются! Каждый из них поклялся на рукояти шпаги, что будет биться, пока у него на спине есть хоть пара лохмотьев!
— В таком случае, полагаю, мир скоро будет восстановлен, — вырвалось у меня.
Мистер Сондерсон подмигнул.
— Весьма дельное наблюдение, — сказал он. — Мистер Уэллсли-старший поделился им со мною при нашей последней встрече.
— Так на востоке боевые действия уже не столь ожесточенны?
Мистер Сондерсон снова подмигнул и спросил кружку портера. Я тут же послал за бочонком в таверну «Робин Гуд» через дорогу. Когда Сондерсон получил свою кружку, он, сдув пену, выпил большой глоток за здоровье «храбрых и оборванных». Я тихо подхватил: «За вшивых и победоносных!» Он услышал и одобрительно кивнул.
Некоторое время мы оба в молчании накачивались портером, затем мистер Сондерсон заговорил…
Мистер Сондерсон больше не заговорил. Он растаял как сон. Меня позвали проверять урок, а к тому времени как я вернулась за стол, настроение, вызвавшее к жизни эту причудливую аллегорию, улетучилось безвозвратно. С тех пор прошло две недели, и сейчас у меня впервые за все это время выдались свободные полчаса. И опять тоскливым субботним вечером я пытаюсь призвать к себе смутные тени: не грядущие события, а эпизоды далекого прошлого, радости и чувства, которых, я иногда боюсь, мне уже не вкусить вновь.
Мало кто поверит, что чистое воображение может дарить столько счастья. Перо не в силах живописать всю увлекательность сцен, последовательной череды событий, которые я наблюдала в крохотной комнатке с узкой кроватью и белеными стенами всего в двадцати милях отсюда![69] Какое сокровище — мысль! Какая привилегия — грезить! Я благодарна, что могу утешаться мечтаниями о том, чего никогда не увижу въяве! О, только бы не утратить эту способность! Только бы не почувствовать, как она слабеет! Если это случится, как же мало хорошего останется мне в жизни — ее сумеречные полосы так широки и мрачны, а проблески солнца так бледны и скоротечны!
Воспоминание хранит множество обрывков вечерних часов в этой крохотной каморке. Здесь я сидела на низкой кровати, устремив взор на окно, за которым не было ничего, кроме однообразной вересковой пустоши и серой церкви посреди кладбища, где могилы расположены так тесно, что бурьяну и траве почти негде пробиться между надгробиями. Над ними в очах моей памяти нависли серые облака, какие часто затягивают небо на исходе холодного октябрьского дня; порою на горизонте сквозь тяжелую гряду проглядывает бледный, окруженный туманным мерцанием лунный диск.
Такая картина стояла в моих глазах, но не отпечатывалась в сердце. Ум осознавал ее, но не ощущал ее присутствия. Он был не здесь. Он пустился в далекое странствие к неведомому острову, у чьих берегов не бросал якорь еще ни один бриг. Другими словами, у меня в голове, быть может, складывалась длинная повесть: история древнего аристократического рода — легенды, не записанные, но передававшиеся старожилами из уст в уста, предания лесов и долин графского, герцогского или баронского имения. Ощущения дубовой аллеи, посаженной предками триста лет назад, покоев, оставленных нынешними наследниками, безмолвных портретов, ненужных и нелюбимых, ибо никто из живущих не помнит во плоти тех, чьи тени они хранят.
С последним взглядом на фамильную церковь, с прощальной мыслью о глубоком склепе под ее плитами, мое воображение перенеслось в некий большой город, в некую царственную столицу, где блистают в веселом патрицианском кругу юные дамы и господа — потомки владетеля поместья. Ослепленные блеском двора, а возможно, и политическим честолюбием, сыновья и дочери почти забыли рощи, средь которых росли. Когда я видела их, прекрасных и величавых, скользящих по салонам, где я встречала столько других знакомых лиц, чьи глаза улыбались, а губы двигались, издавая слышимую речь, — людей, которых я знаю едва ли не лучше, чем собственных брата и сестер, хотя в этом мире никогда не раздастся эхо их голосов, никогда их глаза не узрят здешнего света, — какое волнение жгло сердце, заставляя меня упоенно стискивать руки!
Я тоже позабыла про древнюю вотчину, про густые леса с одинокими полянами, где не бродит никто, кроме оленей. Я не вспоминала больше про готическую церковь, где истлевают кости сотни баронов. Что для меня прабабушкины баллады и предания седобородых старцев в отдаленной деревушке Аннсли?
Я глядела на леди Амелию, старшую из дочерей, как она стоит у высокого окна, за которым мраморная лестница спускается в залитому солнцем газону в окружении розовых кустов, — юную даму в самом расцвете пышной красы. Сейчас она восхитительно хороша, хотя то особое сияние, которым наполняет черты волнение счастья, скоро угаснет. Я вижу, как колышется ее легкое летнее платье, как подрагивают мелкие завитки локонов, как щеки вспыхивают непривычным румянцем, а улыбка заставляет лучиться взор. Я вижу их сейчас: она оглядывает толпу знати. Слышит, как ее брат называет имена и титулы баловней судьбы, властителей умов. Некоторых ей представляют, и они останавливаются с нею поговорить.
Я слышу их голоса так же отчетливо, как она, явственно вижу их фигуры, испытываю все то, что переживаешь, впервые оказавшись в кругу прославленных людей, узнавая по тону, движениям и внешности тех, кого никогда прежде не видела, но о ком столько раз читала и слышала. Это ли не восторг? Я непривычна к такому великолепию, какое меня окружает, к блеску огромных зеркал, красоте мраморных статуй, мягким иноземным коврам, длинным просторным залам, высоким золоченым потолкам. Я ничего не смыслю в чинах и званиях; тем не менее эти люди передо мною толпами, скоплениями. Они подходят и отходят, разговаривают, подзывают меня движением руки; они не фантомы, а люди из плоти и крови.